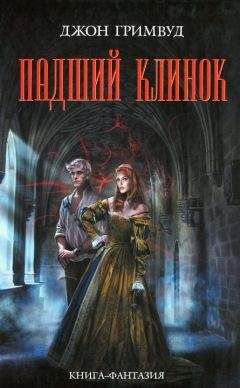Ричард Бирд - Х20
— Откуда нам знать?
— 800 градусов по Цельсию.
Дрожа от удовольствия, возвышаясь на пуфике, тело чувственно оживает. В любой момент готов прыгнуть, спастись, но когда разные растения достигают разных стадий сгорания, запах горящего табака делается чуточку интереснее, чуточку насыщеннее. Языки пламени над рабочей скамьей опадают, кресло вспыхивает, но пуфик прохладен и нетронут в полном соответствии со своей этикеткой. Бананас — его зеленые глаза расширены — глубоко вдыхает, улыбается и медленно исчезает за голубовато-зелеными завесами дыма.
— Он умер, да?
— Это всегда нелегко, — сказала Эмми.
— Это я виноват.
— Ты не мог его спасти.
— Не надо было давать ему пепельницы.
— Он умер счастливым, — сказал Тео. — По уши заряженный никотином. Он преодолел неудобство мысли о том, что удовольствие недолговечно. Он наслаждался без конца. Идеальная смерть.
— Не смерть, а сладкий сон, — сказал Уолтер.
— Умер, сгорел, — сказал я. — Ушел навсегда.
Против жара в 800 градусов пуфик был беззащитен. Он забыл обещание, данное моей матери. Он не помог Бананасу. Не смог сохранить воспоминание о спине и ягодицах Люси. Бренность пуфика привела к уничтожению столь основательному, что я оцепенел и был не в состоянии четко соображать.
— Это бессмысленно.
— Смерть естественна, — сказал Уолтер.
— А счастливая смерть возможна, — сказал Тео. — Уверяю тебя.
— Он всегда будет жить, — заверила меня Эмми, — в наших воспоминаниях.
Я уже было надумал им поверить, когда вернулся Джулиан.
— Проводка отсырела, — сказал он. И посмотрел на Тео. — Этого бы не произошло, если бы вы остались в “Бьюкэнен”. Ваши растения были бы в безопасности.
— Не хочу спорить, — сказал Тео. — Не здесь.
— А чего нам спорить? Это не ваши трудности. Это даже не ваш дом.
— Я думал о Грегори.
— Впрочем, могло быть намного хуже.
Затем Джулиан сказал нам, что гостиная даже не пострадала от воды, а я еще не вполне соображал, и потому лишь поблагодарил. Он сказал, что друзья на то и нужны.
— Я любил этого кота.
Джулиан похлопал меня по спине.
— Выше нос, Грегори, — сказал он. — Этого могло и не случиться.
— Ты ужасно выглядишь, — сказала Джинни.
— Зачем ты пришла?
— Мадам Бойярд посоветовала. Что с твоей рубашкой?
Я увидел, что рубашка вся испещрена прожженными дырочками.
— Ты же не думаешь, что я отпущу тебя просто так? — сказала она.
Прошло больше недели с тех пор, как я был в библиотеке, и в основном я гулял по Парижу. Чтобы придать этому видимость смысла, я каждое утро придумывал сложный маршрут, изобилующий правилами. Мне, скажем, приходилось подолгу бродить, избегая красных вывесок над табачными лавками, или я отправлялся ночью на Монпарнас, никогда не отклоняясь от дороги, соединявшей все кинотеатры Левого берега, где крутили черно-белые фильмы, желательно на французском, и чтобы в названии обязательно была буква У. Куда бы я ни пошел и каким бы правилам ни следовал, я настойчиво проверял теорию любви с первого взгляда, пялясь на множество девчонок в первый раз.
Я стал считать церкви, конные статуи, итальянские ресторанчики, что угодно, чтобы отвлечься от необходимости принимать решения. Я глядел на памятники, пока они все не сливались в один. Я ходил как лунатик, просто занимал место, к которому никто не приближался, плыл между черноволосыми девушками и пожилыми дамами, курившими счастливые сигареты. Постепенно я стал терять импульс, в котором распознавалась жизнь, но никогда не давал себе пойти вразнос: мои туристические маршруты были источником бдительности, распределением времени. Они были попыткой сдержаться и приносили мне легкое, хоть и временное, удовлетворение.
Я бы мог бесконечно продолжать в таком духе: спать, гулять и жить дальше, не бесчувственно, но нейтрально, бессмысленно, точно крыса, брошенная в лаборатории. Моя мать ошиблась, со мной не произошло ничего ужасного. Опасностей не существовало, или они таились где-то еще, хотя малейшей неприятности хватило бы, чтобы дать мне понять, что я хотел защитить: Люси, или Джинни, или свое воображаемое великолепное будущее. Однако я не болел, и дни мои не были сочтены. Если уж на то пошло, каждый день до сих пор казался использованным, потрепанным с краев, будто страница, которую написали, переплели, издали, изучили, вновь изучили, затрепали и зачитали до такой степени, что из нее больше ничего нельзя почерпнуть. От этого оставалась неудовлетворенность столь смутная, что я почти стыдился.
Я больше не читал книжек по истории, потому что жизнь — не головоломка, которую можно разгадать чтением. Вместо этого я собирал спички из легкомысленных ресторанов и, за полночь вернувшись в свою комнату, тренировался, зажигая их в сложенных лодочкой ладонях, как Хамфри Богарт в Париже в фильме “Касабланка”. Я прожигал дырочки в рубашках. Держал горящие спички вверх ногами, смотрел, как язычок пламени ползет к пальцам, и думал, что спичка — честная вещь. Она не делала вид, что тверда или зависима в моих руках.
— У тебя вся рубашка спереди в дырках, — сказала Джинни.
Я не брился и не надевал ботинок или носков. Однако Джинни тоже не в оперу направлялась. Она сняла джинсовую курточку и повесила ее на дверную ручку. На Джинни было платье цвета ванильного мороженого, короткое, с земляничниками. Никаких очков.
— Я же говорила, что не сдамся, — сказала она, и я вспомнил, как во время прогулок где-то в глубине моего разума теплилась мысль, что на все это у Джинни есть ответ. Она верила в абсолютизм и очищение любовью, и, возможно, была права.
Я подвинулся на кровати, чтобы дать ей место, но когда мягкий матрас прогнулся, сведя нас вместе, мы отклонились в разные стороны, противясь его инициативе. Джинни скинула кроссовки, подтянула под себя ноги, и мы немного покачались на мягком матрасе. Она весело поморгала.
— Контактные линзы, — сказала она.
— Тебе надо носить очки.
— Я больше нравлюсь тебе в очках?
— Джинни.
— Грегори, я вообще тебе нравлюсь? Ты ужасно ко мне относился.
— Я не очень хорошо себя чувствовал.
Она встала на колени и повернулась ко мне, опираясь на стену, пока кровать не перестала раскачиваться. Опустилась на пятки. Затем скрестила руки на груди и двумя пальцами — у нее были прекрасные руки — взялась за тоненькие бретельки платья.
— У меня есть все, что есть у Люси, — сказала она.
Мне нечего было ей ответить. Она медленно стянула бретельки с плеч, скатила платье по груди и оно скомкалось, спустившись к ней на живот. Бретельки она оставила на локтях. Под платьем на ней ничего не было, но я отмахнулся от этой картины. Все бессмысленно и немного грустно, потому что она не восхитит меня — я ей не позволю. Это нечестно, так нельзя с Люси.
Джинни знала, о чем я думаю. Она глубоко и разочарованно вздохнула, ее легкие наполнились воздухом, приподняв вздернутые груди, которые подрожали секунду, а потом вновь опустились.
Она стянула бретельки платья с рук. Я пристально разглядывал ткань у нее на животе. Я не знал, как сказать Джинни, что это не работает, но тут она потянулась к дверной ручке и полезла в карман джинсовой курточки. Достала оттуда сигарету и зажигалку и вновь обернулась ко мне, все еще стоя на коленях. Вставила сигарету между губами.
— Твое горло, — сказал я, приподнявшись на постели и подтягивая под себя ноги.
Она вытерла лоб, а затем перекатила сигарету в угол рта. Ее губы расслабились, и сигарета повисла под залихватским углом, знакомым мне по старым фильмам. Я восхищенно опустился перед Джинни на колени.
— Твои голосовые связки, — сказал я.
Сигарета дрогнула, когда она вдохнула.
— Мои легкие, — сказала она, и сигарета задергалась. — Люси так это делает?
Я кивнул.
Она взяла зажигалку обеими руками, чиркнула. Поднесла ко рту, ее груди легли на белые руки.
— Смотри, — сказала она. — Смотри, как это делаю я.
День
18
С каждой неделей Тео курил все меньше, и мы знали, что он умирает. Упрямец Уолтер даже потрудился разыскать “Кельтик”, любимые сигареты Тео, а затем отметил, что в кашле Тео виновна зима. Приближалась весна, и тогда Уолтер стал винить дом: ядовитую лабораторную пыль или микроскопический пепел, оставшийся после пожара.
Эмми попросила его прекратить.
— Тео умирает от рака легких, который вызван курением, — сказала она.
От любви Эмми изменилась, будто смирилась наконец, что влюбляться в курильщиков — ее судьба. Возможно, это эдипов комплекс, считала она. Однажды она даже неохотно призналась, что уважает безрассудство, необходимое для курения. Это все равно что взывать к Господу со специальной просьбой, и хотя взывать к Господу можно и другими способами наподобие скалолазания и мотогонок, ни то, ни другое никогда не интересовало мужчин, которых она любила.