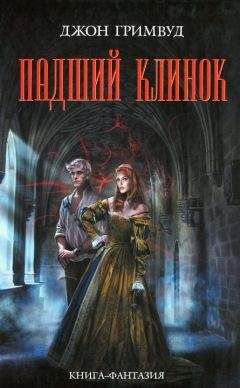Ричард Бирд - Х20
— Вот это я и имею в виду, — сказала мадам Бойярд. — Грегори, ты не сосредотачиваешься.
— Простите, — сказал я. — Это рассеянность.
— Врешь, — сказала Джинни.
Мадам Бойярд выжидательно взглянула на нее. Джинни пожала плечами:
— Все очень просто. Я его люблю, он меня — нет. А страдает оперный архив.
Затем Джинни очень сухо, будто устав от перешептываний, рассказала мадам Бойярд все. От разрыва со своим парнем она перешла к нашему вечеру в “Козини”, фильму “Вперед, путешественник” и судьбоносному поцелую на мосту, который оказался столь страстным и долгим, что я его еле узнал. Мне стало жаль мадам Бойярд. Забыв, что она француженка, я счел, что она ошарашена. Она, как и Джинни, обожала оперу.
— Неудивительно, что вы не продвигаетесь в работе, — сказала она и погладила Джинни по руке. Затем повернулась ко мне и спросила, что со мной. — В тебя не каждый день влюбляются, — сказала она, а затем весьма точно перечислила все достижения Джинни и ее привлекательные физические черты, включая строение костей.
Я, ошарашенный англичанин, забормотал в клавиатуру, мол, Джинни мне очень нравится, да и вообще она восхитительна, но у меня уже есть девушка в Англии, так что об этом и речи быть не может.
— У него даже нет снимка, — сказала Джинни. — И он отказывается о ней говорить. Я знаю только, что у нее черные волосы и она курит.
— Может, он ее все равно любит, — предположила мадам Бойярд. — Если честно. Такое возможно.
— На мой взгляд, это не любовь, — сказала Джинни, и мадам Бойярд кивнула. — Любовь — это скорее перемена образа мыслей. Этому нельзя противиться. Это как зависимость, она непреодолима. Она отравляет. Если бы она так его любила, его бы здесь не было. Я права или нет?
По возможности кратко я сообщил им, что никто не может доказать, любят ли они кого-нибудь, и к тому же это не их дело.
— Это вам не опера, — сказал я.
Мадам Бойярд и Джинни на мгновение задумались, а затем дружно пришли к выводу, что я ошибаюсь и что любовь в современном мире все еще может походить на оперу. Просто в наши дни нужно давать раздолье сильным чувствам, вот и все.
У Джулиана Карра таких трудностей не было. У Джулиана Карра было все. У него была ответственность: он проводил собственные опыты. Он принимал решения, уточняя, сколько именно сигарет в день надо выкуривать. Он решал проблемы, распоряжаясь, чтобы каждый употреблял неизменное количество никотина и смолы, куря только одну марку. Он настаивал на регулярных обследованиях, дабы убедиться, что его данные показательнее тех, что поступают от обезьян. Но он также проявил гибкость, особенно когда понял, что строгость его системы отпугивает всех, кроме самых отчаявшихся. Никчемные людишки, писал он и клял их бессистемные и ненаучные жизни. Они вечно не соблюдали расписание. Пропускали встречи и принимали сигареты от незнакомцев. Курили слишком много, когда напивались, и слишком мало, когда мучились похмельем. А главное, все они курили до начала испытаний, поэтому Джулиан не знал, насколько предыдущее курение искажало результаты.
И все же он стоял на своем. Он считал, что найдет надежного некурящего человека, если “Бьюкэнен” даст ему время и финансовую поддержку новой системы выплат. Она начиналась с небольшой выплаты, которая каждый год удваивалась. Чем дольше испытания, тем ценнее данные для “Бьюкэнен” и крупнее выплаты. Естественно, это зависело от выполнения всех требований контракта, наверняка включавших и проживание поблизости от Центра исследований, но после первых нескольких месяцев никотин станет неповторимой приманкой сам по себе. Для полного счастья, писал Джулиан, мне надо лишь найти своего мистера Икс.
Я завидовал ему, потому что он знал, чего хочет. И почти наверняка получил это — скорее всего еще до того, как я перестал пялиться в экран компьютера и перепечатывать всеми забытые оперы, пока женщины обсуждали мою неспособность по-настоящему любить.
— Мужчины не в силах изменить образ мыслей, — сказала мадам Бойярд, — поскольку думают, что и без того идеальны или хотя бы наполовину пригодны. Они не могут уяснить, что любовь подобна смерти и загробная любовь в загробной жизни отличается от привычной жизни.
— Надо бы не обращать на них внимания, — сказала Джинни. — Но потом влюбляешься и не можешь остановиться.
— Конечно, можешь, — сказал я. — Просто займись чем-нибудь.
— Все остальное бессмысленно. Даже мое пение. Я бросила бегать.
— Значит, ты не можешь быть влюблена, — сказал я. — Считается, что это полезно.
Мадам Бойярд и Джинни вздохнули в унисон. Они настроены на одну волну. Затем мадам Бойярд спросила меня, не боюсь ли я женщин, и тогда я встал и надел пиджак.
— Постой, Грегори.
Мадам Бойярд встала и загородила мне выход.
— Успокойся, — сказала она. — Вот. — Она взяла свою сумочку, и я решил, что она собирается дать мне денег, но она достала две сигареты и положила их на стол. — Возьмите, — сказала она. — И успокойтесь.
— Я же бросил, помните?
— Я никому не скажу.
Я должен был недвусмысленно заявить ей, что это не имеет ничего общего с курением. Но меня сбила с толку Джинни: она проворно схватила одну сигарету и опустила ее в верхний карман джинсовой курточки. Невинно посмотрела на меня, и тут, как бы ни отличались Люси и Джинни, я подметил между ними одно большое сходство. Все без исключения женщины безумны. Это объясняло множество загадочных вещей, которые иначе невозможно понять.
— Он же был огнеупорным, — сказал я. — На нем была этикетка Британского института стандартов.
Я закрыл глаза, надеясь, что этого не произошло, но на фоне запаха горелого дерева и обуглившихся кирпичей явственно чувствовался душок зеленого табака. Я слышал шипение пара и крики людей. Слышал лай Гемоглобина. Я открыл глаза и увидел, как он увлеченно наматывает круги в свете фар пожарных машин, припаркованных между нами и домом. Полосы голубого света шарили по темному саду и расцвечивали подходивших Эмми, Тео и Уолтера. Только Джулиан сохранял спокойствие, он стоял в тени пожарной машины и разговаривал с пожарником, выяснял, что произошло.
— Может, он внутри, — сказал я.
— Нет, — сказал Тео.
Нам приходилось перекрикивать ветер и шипение пожарных машин. Тео поднял воротник плаща.
— Может, где-нибудь спрятался?
— Нет, — сказала Эмми.
Она застегивала свою ветровку. На ней были джинсы Тео.
— Но ведь какая-то надежда есть?
Тео подошел вплотную ко мне, чтобы не кричать. Его лицо исхудало, а шрам на губе стал заметнее. Он положил руку мне на плечо, словно чтобы поддержать. Он сказал:
— Табак горит при температуре 800 градусов по Цельсию.
Эмми взяла меня за руку.
— Мы понимаем, каково тебе, — сказала она.
— У меня однажды умер попугайчик, — сказал Уолтер, но Эмми осадила его взглядом, и он умолк.
В растерянности я пытался сфокусировать взгляд на желтой зюйдвестке Уолтера. В ней он смахивал на пожарника.
— Его звали Мак, — сказал Уолтер.
Мне хотелось свалить на кого-нибудь вину. Тогда это обрело бы какой-то смысл. Я пялился на колоколообразную шляпу Уолтера и гадал, может ли человек его возраста помнить, как уронил зажженную трубку в корзину для мусора, набитую бумагой. Сухой бумагой. И старыми деревянными карандашами.
— Уолтер не виноват, — сказала Эмми. — Он пришел в Клуб, чтобы мы побыли наедине.
— Он все сделал правильно, — сказал Тео. — Позвонил по 999, а затем нам.
— Ты не понимаешь, — сказал я. — Моя мать купила его только из-за этикетки.
Сколько бы я ни мигал, это повторялось снова и снова. Бананас спит на пуфике. Загорается табак. Бананас просыпается, усаживается прямо и глубоко вдыхает. Его нос подрагивает, а зеленовато-мраморные глаза превращаются в щелочки. Спина выпрямляется. Хвост неторопливо метет то в одну сторону, то в другую, шурша по старому черному вельвету.
— Какие новости, плохие или хорошие?
Джулиану приходилось кричать. Он единственный был одет по погоде: черное пальто и черные кожаные перчатки.
— Задняя часть дома выгорела, — сказал он потише, когда приблизился, — зато передняя почти совсем не затронута.
— Подумать только, — сказал Тео.
— Они разбираются, как все началось, но главное, что никто не пострадал. Слава богу.
— У Грегори шок, — сказал Тео.
— У нас у всех шок, — сказал Джулиан.
Поскольку никто ему не возразил, он пошел обратно к пожарным машинам.
— Я любил этого кота.
— Ему не было больно, — сказал Тео.
— Откуда нам знать?
— 800 градусов по Цельсию.
Дрожа от удовольствия, возвышаясь на пуфике, тело чувственно оживает. В любой момент готов прыгнуть, спастись, но когда разные растения достигают разных стадий сгорания, запах горящего табака делается чуточку интереснее, чуточку насыщеннее. Языки пламени над рабочей скамьей опадают, кресло вспыхивает, но пуфик прохладен и нетронут в полном соответствии со своей этикеткой. Бананас — его зеленые глаза расширены — глубоко вдыхает, улыбается и медленно исчезает за голубовато-зелеными завесами дыма.