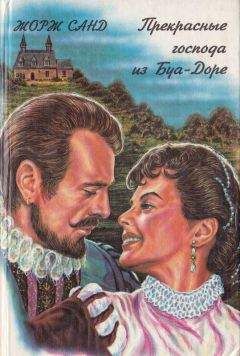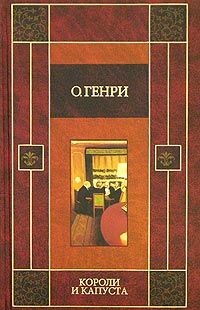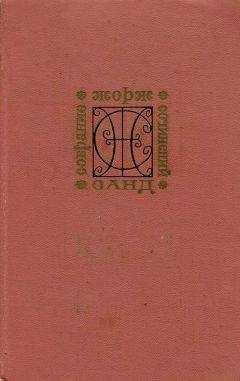О. Генри - Короли и капуста (сборник)
Уайт встал и несколько раз прошелся по балкону взад-вперед. Затем он остановился и стал как-то странно смеяться. Его лицо пылало, а взгляд был сердитым и озадаченным.
– Послушай, Билли, – довольно резко начал он, – сначала, когда ты пришел ко мне и заговорил о «картине», я подумал, что тебе нужен плакат на тему «Лучшие овсяные хлопья» или «Патентованная мазь для волос» на фоне горной гряды или края земли. Знаешь, любое из этих произведений было бы Искусством в его наивысшем проявлении по сравнению с тем делом, куда ты меня втянул. Я не могу нарисовать эту картину, Билли. Отпусти меня, пожалуйста. Сейчас я попробую рассказать тебе, чего от меня хочет этот варвар. Он уже все распланировал и даже собственноручно сделал карандашный набросок. Старик совсем неплохо рисует. О великая богиня Искусства! Ты только послушай, какое уродство он попросил меня изобразить. В центре полотна, конечно, будет он сам. Его нужно изобразить в виде Юпитера[186] – он сидит на Олимпе[187], а ноги его попирают облака. Рядом с ним стоит Джордж Вашингтон, при полном параде, положив руку на плечо президента. Ангел с золотыми крыльями парит над ним и возлагает на президентскую голову лавровый венок, как бы коронуя его – ну вроде как майскую королеву[188]. На заднем плане нужно нарисовать пушки, солдат и еще несколько ангелов. Если кто возьмется нарисовать такую картину, то значит душа у него – собачья. Такой художник только и заслуживает, чтобы его пинком выкинули на свалку. Даже не станут привязывать ему к хвосту консервную банку, чтобы и звон не напоминал о нем.
Маленькие бусинки влаги выступили на глазах Билли Кио. Его синий карандашик как-то не предусмотрел такой случай. До этого момента все колесики его плана крутились с завидной гладкостью. Он усадил Уайта на место, притащил на балкон еще один стул, сел рядом с художником и с деланым спокойствием закурил свою трубку.
– Послушай, сынок, – с мрачной нежностью произнес он, – давай мы с тобой поговорим, как художник с художником. У тебя свое искусство, а у меня свое. У тебя высокие мысли, музы и все такое, и ты задираешь нос, если нужно намалевать рекламный плакат для пивоваренного завода в Орегоне или вывеску для харчевни «Старая мельница». Мое искусство – это бизнес. Это был мой план, и все сработало как дважды два. Да нарисуй ты этого presidente хоть в виде старого короля Коля[189], хоть в виде обнаженной Венеры, хоть в виде пейзажа, фрески или букета лилий – как он хочет, так и нарисуй. Но только нанеси краску на холст и получи деньги. Ты ведь не подведешь меня, Кэрри, правда? Ведь дело уже почти в шляпе! Подумай о десяти тысячах!
– Я просто не могу о них не думать, – сказал Уайт, – и это причиняет мне страшную боль. Конечно, очень заманчиво – выбросить в болото все идеалы, которые у меня были, нарисовать эту картину и покрыть себя несмываемым позором. Но эти пять тысяч означали бы для меня три года учебы за границей, а за это я бы, наверное, и душу продал.
– Ну, все не так уж плохо, – сказал Кио успокаивающим тоном. – Только бизнес – ничего личного. Наши краски – ваши деньги. Я совершенно не разделяю твою идею насчет того, что эта картина якобы станет для тебя таким уж позорным пятном с художественной точки зрения. Ты же знаешь – Джордж Вашингтон был вполне порядочным человеком, ну и об ангеле вряд ли кто скажет худое слово. Совсем неплохая компания. Ну а если ты нарисуешь Юпитеру саблю и пару эполет и поработаешь над окружающими облаками так, чтобы они стали похожи на участок с ежевикой, получится неплохая батальная сцена. Если бы мы еще не оговорили цену, то можно было бы накинуть еще тысячу за Вашингтона и за ангела не меньше пяти сотен.
– Ты не понимаешь, Билли, – сказал Уайт с неловким смешком. – У некоторых из нас – тех, кто пытается рисовать, – имеются высокие понятия об Искусстве. Я хотел бы когда-нибудь написать такую картину, чтобы люди стояли, смотрели и забывали, что перед ними лишь холст и краска. Чтобы эта картина входила им в сознание как музыкальная нота и взрывалась там как разрывная пуля. И чтобы потом они спрашивали: «Что еще написал этот художник?» А им бы отвечали – ничего. Никаких портретов, журнальных обложек, никаких вывесок и неоконченных набросков – только эта картина. Вот почему я три года питался одними жареными сардельками, но старался не изменять себе. Я уговорил себя написать этот портрет, чтобы получить возможность поехать учиться за границу. Но эта нелепая вопиющая карикатура! О господи! Разве ты не понимаешь, каково мне?
– Конечно, – сказал Кио так нежно, как будто он говорил с ребенком, и положил свой длинный указательный палец на колено Уайта. – Я все понимаю. Плохо, что вместо настоящего искусства тебя заставляют рисовать такое. Я знаю, ты хотел бы написать что-нибудь великое, например панораму битвы при Геттисберге[190]. Но позволь мне набросать грубой малярной кистью небольшой умозрительный эскиз, а ты над ним подумай. На данный момент мы потратили на осуществление нашего плана 385 долларов 50 центов. Мы вложили в это предприятие все, что смогли наскрести, буквально до последнего цента. У нас может еще хватит денег, чтобы кое-как вернуться в Нью-Йорк. Но мне нужна моя доля от этих десяти тысяч. Я хочу провернуть в Айдахо одно дельце, связанное с медью, и заработать на этом сто тысяч. Вот как обстоят дела с точки зрения бизнеса. Спустись со своих художественных высот, Кэрри, и давай как-нибудь добудем наш мешок с долларами.
– Билли, – с усилием сказал Уайт, – я попробую. Я не стану обещать, что нарисую эту картину, но я попробую. Я пойду на это, и я пройду через это испытание, если только смогу.
– Вот это деловой разговор, – сердечно сказал Кио. – Молодец! Теперь вот еще что: ты поторопись с этим портретом, заканчивай его как можно скорее. Если нужно, попроси, чтоб тебе в помощь дали пару мальчиков, которые будут разводить краски. Я тут немного походил по городу – вижу теперь, что к чему. Народу уже тошно от этого «Блистательного освободителя». Говорят, он слишком уж разбрасывается концессиями, а еще его обвиняют в том, что он собирается заключить с англичанами небольшую сделку – продать им всю страну с потрохами. Нужно закончить картину и получить за нее деньги до того, как начнется заварушка.
В обширном патио замка Casa Morena президент приказал натянуть огромный тент. Здесь Уайт и устроил свою временную мастерскую. Каждый день великий человек уделял два часа на то, чтобы позировать художнику.
Уайт работал на совесть. По мере того как работа продвигалась вперед, у него попеременно наступали период горьких насмешек, период бесконечного презрения к себе, период угрюмого уныния и период сардонического веселья. Кио, с терпением великого генерала, успокаивал, уговаривал, льстил, доказывал – в общем, делал все возможное для того, чтобы Уайт продолжал работу.
Через месяц Уайт сообщил, что картина готова – Юпитер, Вашингтон, ангелы, облака, пушки и все остальное. Когда он сказал об этом Кио, его лицо побледнело, и он крепко сжал губы. Еще Уайт рассказал, что картина президенту очень понравилась и он распорядился повесить ее в Национальной галерее государственных деятелей и героев. Его попросили завтра зайти в Casa Morena, чтобы получить гонорар. В назначенное время он уехал из гостиницы. Перед его отъездом Кио весело болтал об успехе их предприятия, но Уайт не разделял его веселья.
Через час он вошел в комнату, где ждал его Кио, швырнул свою шляпу на пол и уселся на стол.
– Билли, – произнес Уайт с усилием и каким-то неестественным голосом, – у меня есть немного денег, я вложил их в предприятие моего брата в Оклахоме. На проценты с этих денег я и жил, пока изучал живопись. Я заберу свою долю и отдам тебе все, что ты потерял на этом деле.
– Не вышло?! – возопил Кио, подпрыгивая от удивления. – Разве он не заплатил тебе за картину?
– Да, мне заплатили, – ответил Уайт. – Но картины больше нет, а значит, нет и оплаты. Если тебе интересно послушать – изволь – сейчас расскажу тебе эту поучительную историю во всех подробностях. Мы с президентом стояли и смотрели на картину. Его секретарь принес и вручил мне чек на десять тысяч долларов. Чек выписан на Нью-Йоркский банк, все в самом лучшем виде. Но в ту же секунду, когда я прикоснулся к этому чеку, я прямо взбесился. Я изорвал его на мелкие кусочки и швырнул их на пол. Какой-то рабочий неподалеку перекрашивал стены. Его ведро с краской пришлось мне очень кстати. Я схватил его малярную кисть и быстро закрасил синей краской весь этот кошмар стоимостью в десять тысяч долларов. Я поклонился и вышел. Президент не произнес ни слова и даже не пошевелился. Он был удивлен, вероятно, первый раз в своей жизни. Я понимаю, Билли, что это очень жестоко по отношению к тебе, но я ничего не мог с собой поделать.
В Коралио было неспокойно. На улице был слышен глухой неясный ропот, который все усиливался и в котором можно было иногда различить высокие крики. Крики складывались в слова: «Bajo el traidor – Muerte el traidor![191]»