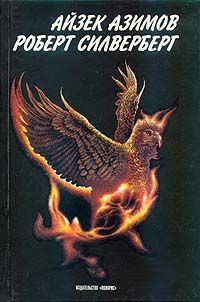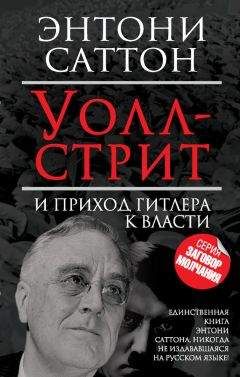Родди Дойл - Падди Кларк в школе и дома
Он улыбался.
— А можно сделать сэндвичи с хрустящими хлебцами?
— Неплохая мысль, — сказал папаня, отлично понимая, что это я у него денег прошу. На руках у него сидели девчонки, он их смешил. Сэндвичи на хрустящих хлебцах. Перекушу на большой перемене, нам же не велят уходить со двора, если только не пошлют с запиской куда-нибудь. Ничего страшного с ней не случилось. Ну приболела слегка; это наверняка могу утверждать. То ли живот болит, то ли голова, а всего вернее — очередная простуда. Папаня спустил с рук Кэтрин и искал в карманах деньги. Нашу малышку ничто не удерживало: папаня пришёл, значит, Кэтрин внизу.
— Ага…
Отыскал деньги.
— Вот.
Два шиллинга.
— Каждому по монетке. Только по-честному.
— Спасибо, папочка.
Вернулся Синдбад.
— Папаня нам дарит по шиллингу, — сообщил я ему тут же.
— А мы вернёмся — мамочке станет лучше? — прошептал Синдбад.
— Не факт, — непонятно сказал папаня, — не факт, но скорее всего.
— Сэндвичи на хрустящих хлебцах, — объявил я Синдбаду и показал ему два шиллинга. Вынул платок, положил в него монеты и тщательно завернул, потом затолкал в карман. Деньги были в безопасности.
Я приучился тянуть время после школы. Прятал ранец у забора Эйдана с Лайамом, в изгороди, и мы шли выслеживать Чудного Мужика. Чудной Мужик обитал в полях. Полей почти не осталось, но он всё равно там обитал. Однажды я на него напоролся, и он спрятался от меня в канаве. Весь грязный, горбатый, в длинном черном пальто и в кепчонке. Зубов у Чудного Мужика не было, одни черные пеньки, как у Тутси. Сам я не разглядел его зубов издалека, но догадывался, какие они страшные.
Мы выслеживали Чудного Мужика весь день. Бегали за ним, а он бегал от нас. Мы убить его были готовы. Он питался птицами, крысами и тем, что находил в помойке. Папаня всегда выставлял мусорку за ворота вечером в среду, потому что мусорщики приезжали утром в четверг, а по утрам он торопился на работу. И вот однажды в четверг кто-то сбросил с мусорки крышку и вывалил мусор на дорогу. Пакеты, кости, жестянки и прочее, что лежало сверху: то есть понедельничный, вторничный и вчерашний мусор. Я прибежал домой рассказать маме.
— Кошки шалят, — отмахнулась она, — не забивай себе голову.
Я вышел: пора было в школу, и заметил: один ломоть хлеба был точно каблуком примят. Я брезгливо пнул хлеб; примятая часть прилипла к земле. Чудной Мужик.
Он был ничей, бесхозный. Одна девчонка из Бэлдойла шла домой, а Чудной Мужик выпрыгнул из-за столба прямо перед ней и показал ей свой хрен. Девчонка заболела с испугу, даже в больницу попала. Полиция так и не поймала мы пошли выслеживать Чудного Мужика. Он чуял нутром, когда человек один и беспомощный.
— Во время войны он на передовой служил, — сообщил Эйдан мне и Лайаму. Кевин куда то поехал с родителями; заболела его бабушка, и его заставили надеть приличный костюм. Он принёс записку, и его отпустили пораньше с уроков. Я радовался, что Кевин не пришёл, но никому не говорил, естественно.
— Откуда ты знаешь? — спросил я таким голосом, каким ни за что бы не спросил, будь с нами Кевин.
— Его ранили в голову, а пулю неудачно вынули. Вот он и псих теперь.
— Убить его мало.
— Ага.
— Похоже, помрёт Кевинова бабка, — сказал вдруг Лайам, — помнишь, когда маманю хоронили, мы тоже в самых хороших костюмах на похороны шли.
— Нет, — помотал головой Эйдан, — То есть да. После поминки устроили.
— Поминки?
— Ну да, поминки, — сказал Эйдан.
— Угу, — поддакнул Лайам, — Бутерброды. Взрослые перепились, страшное дело.
— И нам налили.
— Сидят пьяные и песни поют.
Захотелось домой.
— Вряд ли мы его найдём, — небрежно сказал я, — Больно светло.
Все согласились. Не обзывались ни цыплаком, ни котом-зассыхой. Я забрал ранец и пошёл шагом, как нормальный человек. Сорвал с хенлиевского дерева лист, сложил вдвое и любовался, как набухает соком трещина. Пришёл.
Маманя была в ночной рубашке, только и всего.
— Приветик, — поздоровалась она.
— Привет! — сказал я.
Синдбад уже успел разуться. На первый взгляд, с маманей ничего страшного не произошло, но это же — на первый взгляд.
— Ты ещё болеешь?
— Так, понарошку, — сказала маманя, — Мне хорошо.
— Хочешь, в магазин сбегаю?
— Да нет, спасибо, — рассеянно сказала маманя, — Фрэнсис мне новую песенку пел.
— А мы на завтрак ели хрустящие хлебцы, — пробормотал я.
— Не сомневаюсь, — ответила маманя, — Допевай давай, солнышко?
— Ату-ату! Свора, прочь!
Синдбад уткнулся взглядом в пол и полуотвернулся.
— Ату-ату! Свора, прочь!
Ату-ату! Свора, прочь!
Ребята, прочь!
Маманя захлопала.
Назавтра она опять вышла в ночной рубашке, но только потому, что ещё не успела одеться. Она заметно оклемалась: глядела острее, двигалась легче.
Я не спал всю ночь. Почти всю ночь, сколько продержался. И ничего. Проснулся засветло, вылез из-под одеяла. Бесшумно спустил ноги на пол. Подкрался к их двери, перешагнув скрипучую половицу. Послушал. Тишина. Спят. Папанин храп. Маманино почти беззвучное сопенье. Я вернулся. Как приятно возвращаться в постель, особенно если там ещё сохранилось тепло. Поджал под себя ноги. Не так уж плохо бодрствовать но ночам, когда ты сам по себе. Я покосился на Синдбада. Ноги на подушке, голова фиг знает где… только затылок виден. Я следил, как мелкий дышит. За окном распевали птицы: три разных вида. К молоку подбираются. На ступеньках припасен обломок черепицы, чтобы молочник накрывал им бутылки. Это от птиц, чтобы не расковыривали крышки. Ещё раньше лежали специальная крышка от жестянки с печеньями и здоровый камень, а теперь куда-то провалились; крышка провалилась, камень я не искал. Непонятно, почему птичкам не разрешают попить молока. Ну, отхлебнут чуточку сверху… В их спальне, на тумбочке с папаниной стороны зазвонил будильник. Ага, выключили. Я повременил. Услышал, как маманя подходит к двери — хорошо, что я дверь закрыл как следует! — и притворился спящим.
— Доброе утро, мальчики.
Я попритворялся спящим ещё немножко. И смотреть не нужно, по голосу ясно, что мамане полегчало.
— Подъём, подъём!
Синдбад смеялся. Маманя его щекотала. Он верещал, счастливый и томный. Я ждал своей очереди.
Всё это, впрочем, не значило, что беда миновала, а значило, что если папаня снова до мамани докопается, она будет во всеоружии. Первый раз она не встала утром с тех пор, как приехала из больницы с Дейрдре. Тогда тоже лежала два дня. Мы гостили у тётки, и когда приехали, маманя ещё не вставала. Тётка Нуала, маманина старшая сестра. Мне там не нравилось. Я хоть соображал, что происходит, а Синдбад — не соображал совершенно.
— Ма-мамоцка в больницке.
Раньше он так не говорил. Раньше он говорил правильно.
Приехали, а маманя ещё не встаёт. Ехали на автобусе, даже на двух перекладных. Дядя нас привёз.
Я был на страже. Я прислушивался.
— Поминки будут устраивать, — разъяснял я Кевину, — Прямо после похорон. Дома. Песни петь и вообще.
Хенно послал меня в магазин купить два кекса к чаю.
— А если кексы кончились: пакет «Микадо».
Он разрешил взять полпенни со сдачи, так что я купил леденец. И показал Кевину из-под парты. Дурак я, зря не купил что-нибудь такое, чем можно с ним поделиться.
Когда Хенно велел нам уснуть, Кевин подбил меня съесть леденец целиком. Если выну его изо рта, потому что Хенно пошёл по рядам поверять тетради или просто услышал чавканье, если струшу, то остатки леденца достаются Кевину. Он сполоснёт его под краном, и порядок, есть можно.
Я сунул в рот леденец, и как раз Хенно вышел переговорить с Джеймса О'Кифа маманей. Миссис О'Киф криком кричала. Хенно пристрожил нас и закрыл за собой дверь, но её всё равно было слышно. Джеймса О'Кифа не было в школе. Я мусолил леденец как сумасшедший. Она знай твердила, что Хенно, дескать, к Джеймсу О'Кифу придирается, напридираться не может. Я гонял леденец языком, прижимал языком к щекам изнутри, к нёбу. Леденец размяк, аж не выплюнуть. Я разинул рот: пусть Иэн Макэвой полюбуется. Леденец побелел. Я облизал его. Мой ребёнок ничуть не тупее прочих, кричала миссис О'Киф, я, мол, знакома с некоторыми — нечем похвастаться, нечем. Хенно открыл дверь и снова нас пристрожил. Тише, тише, миссис О'Киф, расслышали мы. И ушёл. Из коридора не доносилось ни звука. Куда-то повёл миссис О'Киф. Все смотрели, как я маюсь с этим леденцом, веселились и переговаривались. Хенно подходил к двери и притворялся, что вот-вот вернётся, но я на этот трюк не купился. Он сто лет болтался за дверью, а когда вернулся, леденец уже легко было проглотить. Победа! Глядя Хенно в лицо, я проглотил леденец и чуть не поперхнулся. Сто лет потом горло саднило. Весь день Хенно был сущий ангелочек. Водил нас на футбольное поле, учил вести мяч. Язык у меня сделался розовый-розовый.