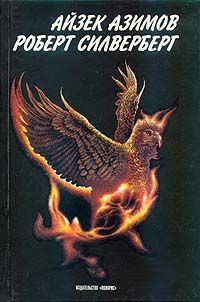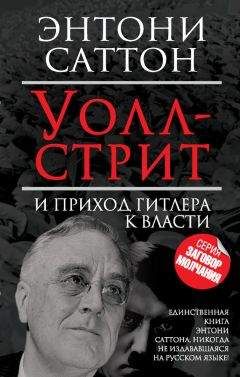Родди Дойл - Падди Кларк в школе и дома
— Превосходно, мистер Кларк. В классе бы так скоры были на верные ответы.
А ведь я и в классе был не из последних, кое в чём разбирался получше самого Хенно. Ублюдок всё-таки наш Хенно. Ублюдок, как известно, — это ребёнок неженатых родителей, иначе — рожденный от незаконной связи. Хенно, хоть и не ребёнок, был всё же ублюдком. Нет чтобы спокойно наградить меня медалью, непременно нужно цирк с клоунами устроить. Термина «незаконный» в словаре не было, «законный» определялось как согласующийся с правилами, законами. Ежу понятно, незаконный — это противоположность законному. Гипертрихоз — это, вообразите, повышенная волосатость. Ничего себе.
— У него гипертрихоз яиц.
— Гипертрихоз!
— Гипертрихоз гипертрихозистый!
Медаль была без надписей, зато с изображением бегуна в красных шортах и белоснежной футболке, но почему-то босого. Кожа бегуна и фон медали не отличались по цвету. Домой я брёл нога за ногу; набегался, что поделаешь. Сначала пошёл к папане.
— Уйди, не сейчас.
Даже головы от газеты не поднял. По субботам он вечно рассуждал о «Заднескамеечнике», пересказывал мамане статьи из этой газеты. Вот и сейчас, наверное, уткнулся в «Заднескамеечника». Сложил газету, расправил. Вроде не злой.
Я чувствовал себя кретином. Сперва надо было сходить к мамане; легче было бы пережить папанину грубость. На подгибающихся, резиновых ногах я приблизился к двери. Папаня сидел в салоне. Где ж ещё в этом сумасшедшем доме найдётся мир и покой для уставшего отца? Подождать? не страшно, я согласен, но даже головы не поднял!.. Я уже хотел аккуратно прикрыть за собой дверь.
Он меня заметил.
— Патрик?
— Извини, пожалуйста.
— Да ладно, заходи.
Газета упала на пол и сложилась углом; папаня не стал поднимать.
Я отпустил дверную ручку. Не забыть смазать. Отступил в ужасе и восхищении одновременно. Жутко приспичило по-маленькому, и в какую-то секунду я решил, что обмочился. Заплетающимся языком спросил:
— Ты «Заднескамеечника» читаешь?
Он вдруг просиял.
— Эй, что у тебя в руке?
— Медаль вот получил…
— А ну-ка покажи! Что ж ты раньше молчал? Выиграл и молчишь.
— Второе место.
— Рядом с первым.
— Угу.
— Молодец.
— Я думал, я выиграю.
— Следующий забег выиграешь, конечно. Серебряная медаль, отлично. Дай-ка посмотреть, — и протянул руку.
Чего бы я не отдал, чтобы папаня с самого начала так заговорил! Так нечестно — чуть до слёз не довёл, и вдруг разлетелся ко мне и сделал всё, как я мечтал. Так, конечно, случалось не всегда, но папаня постоянно присваивал себе то одну, то другую комнату, и в выходные дом становился как чужой. А нечего было мчаться, очертя голову, проверить бы сперва. Злился я не столько на папаню, сколько на газету. Идиотство газеты эти: Третья мировая война у ворот, Третья мировая война у ворот, а всего-то-навсего израильтяне арабам всыпали. Терпеть этого не могу. Сказали «убью», значит, убивайте.
— Я тебя накажу.
Так правильнее.
Газеты — нудятина. Иногда папаня читал мамане своего «Заднескамеечника»: чушь и нудятина. Маманя, правда, слушала, но только потому, что читал папаня — её муж.
— Замечательно, — говорила она, однако таким серым, скучающим голосом, как будто бы имела в виду «Спать пора».
— Слово стало плотию!
Свист. Удар!
— Заднескамеечник!
Сама газета была громадная, а шрифт меленький: хоть с утра до вечера читай, особенно по субботам и воскресеньям. Я читал передовицу в вечерней газете о вандалах, нанесших повреждения старинному ирландскому кресту. За восемь минут одолел. Была там и фотография роскошного резного креста, наверное, до того, как его испортили. Если послали в магазин за газетой, а на дворе славный летний денёк, солнечно, ни облачка, то в газете будет фотография девушек или детворы на пляже, обычно по трое в ряду и у каждого совочек и лопатка. Это всегда оправдывалось. А папаня, если уж уселся за газету, не успокоится, пока не дочитает. Думает небось, доброе дело делает. Весь день насмарку. Ворчит, кипятится, ничего не успевает. Шрифт меленький, глаза устают. Субботний вечер называется: маманя нервничает, мы дружно ненавидим папаню, а он плюёт в потолок, ворчит и почитывает свою газетёнку.
Я тебя на кресте распну.
Джеймса О'Кифа маманя так говорила Джеймсу О'Кифу, и братьям его, и сестрёнке даже. Это означало «Делай как велено». Я тебя заживо освежую. Шкуру спущу. Кости переломаю. Надвое разорву. Изуродую.
Дураки они все-таки.
Спляшу над ямой за тебя. Понятия не имею, что это значит. Миссис Килмартин выкрикнула эту фразу в лицо своему отсталому сыну Эрику, когда он открыл и рассыпал шесть коробок галет.
— Это значит, — объяснила маманя, — что миссис Килмартин готова убить Эрика и попасть на виселицу за это преступление. Но на самом деле она так не думает.
— А почему она не скажет, как думает?
— Да это ж просто выражение такое…
Как, наверное, здорово быть умственно отсталым. Делай что пожелаешь, и в настоящую беду не попадёшь. Правда, здоровый может строить из себя умственно отсталого, а наоборот не получится. Домашки никакой, мусоль свой обед, сколько вздумается.
Агнес, которая работала в магазине миссис Килмартин, потому что миссис Килмартин подсматривала из-за дверей, часами каждый Божий день вырезала кусочки из первых страниц газет: только название и дату выпуска.
— А зачем?
— Назад отправить. В редакцию.
— Зачем? — поразился я.
— Ну, целая газета не нужна им.
— Почему не нужна?
— Что значит почему? Не нужны, и всё. Они же старые, никчемные.
— А можно мне взять?
— Нет, нельзя.
Газеты были и мне ни к чему, а спросил я только потому, что проверял Агнес.
— Миссис Килмартин ими жопу подтирает, — высказался я. Правда, тихонечко.
Синдбад поглядывал в дверное окошко, за которым и находилась миссис Килмартин.
Агнес спокойно отпарировала:
— Катись отседова, щенок, всё хозяйке расскажу.
Эта Агнес жила со своей маманей, значит, была не настоящая женщина. Жили они в коттедже, затесавшемся среди новых домов. Непонятно, как его не снесли до сих пор. Газон у Агнес в саду был в полном смысле безупречный.
Читая газету, папаня менялся в лице: выдвигал челюсть, сводил брови к переносице. Иногда губы приоткрывал, а зубы стискивал. Какой странный звук, откуда это? Папаня зубами скрежещет. Озираю комнату. Подымаюсь. Сажусь на пол у ног папани, жду, когда он перестанет скрипеть зубами. Так ничего не видно. Разглядываю маманю. Читает журнал «Женщина»: не читает. А так. Притворяется, листает страницы, смотрит невидящим взглядом, снова листает. На каждую страницу — одно и то же время. Смотрю на папаню — слышит ли он собственный скрежет, как будто зубы сейчас сломаются. Губы папани шевелятся. Я наблюдаю. Губы папани шевелятся в такт шуму. Шум исходит из них. Сейчас точно зубы сломаются. Хочу предупредить папаню и в то же время ненавижу. Газеты — ублюдки.
— Думаю на ужин свинину приготовить.
Слова не проронит, головы не повернёт.
— Свинина неплохая.
Уткнулся в страницу, а глаза неподвижные. Тоже ничего не читает. Провоцирует.
— А ты как думаешь?
Сосредоточенно, усердно он смял газету и опять её разгладил. Ответил, но не произнёс слова, даже не прошептал, а будто выдохнул.
— Делай как знаешь.
Нос в газету, ноги жёстким крестом, речь неритмичная.
— Как знаешь, делай.
На маманю не оглядываюсь. Не сейчас.
— Ты вечно…
Не оглядываюсь.
Она не отвечает.
Я слушаю.
Слышу только его дыхание. Фыркнул как-то носом. Вдыхает кислород, выдыхает углекислый газ. Растения дышат наоборот. Теперь прислушиваюсь к ней, к её дыханию.
— Можно телик включить? — спросил я, чтобы напомнить: вот он я, здесь. Назревающую драку может остановить присутствие ребёнка. То есть меня.
— Телевизор, — поправила маманя.
Всё как обычно. Она всегда поправляла. Маманя презирала слова-половинки, слова-огрызки, слова-уродцы. Только полными именами.
— Телевизор, — покорно соглашаюсь я.
Против «ага», «не-а» и тому подобного, маманя никогда не возражал. Но сокращённые слова терпеть не могла. Это называется «телевизор» — не сдавалась она. А это макинтош. А это туалет.
Голос у неё вроде обычный.
— Можно включить телевизор?
— А что там? — спросила маманя.
Я не знал и знать не желал. Звук заполнит комнату, это главное. Папаня поднял глаза.
— Что-то такое… По-моему, про политику. Интересное что-то.
— Интересное?
— Фианна Фаль против Фине Гэл[26], — выпаливаю я. Папаня даже оторвался от газеты.
— Что-что?
— Кажется, — промямлил я, — Не уверен.
— Футбольный матч, что ли?
— Нет, — догадался я, — Дискуссия.