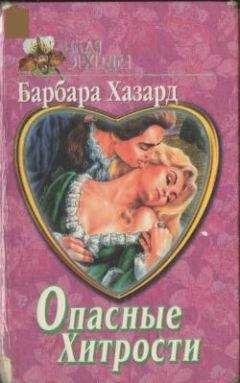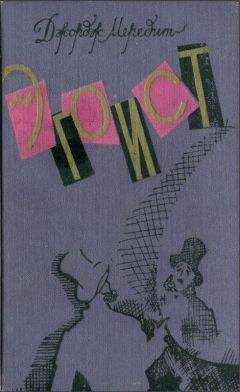Арман Лану - Майор Ватрен
Щедрость полковника по отношению к театру своего блока (лагерь военнопленных состоял из четырех блоков, и в каждом из них имелся свой театр) была очевидна, но рассказы полковника всем надоели. Так как он говорил негромко, Камилл сделал вид, что не слышал последних фраз, и, состроив очаровательную гримасу, показал в оправдание на свой костюм:
— Как будто можно быть женственным вот в этом! А ничего другого у меня нет!
— Завтра будете репетировать в костюмах, — сказал Ванэнакер, выходя из глубины барака, где он что-то писал, не обращая внимания на шум. Ванэнакер тоже был товарищем Франсуа по полку. — Я соорудил тебе бюст и шикарный зад. И, кроме того, моя милая, есть новости…
— Простите, я не помешаю вам? — вежливо спросил, просовывая голову в картонную дверь, офицер с очень смуглым и выразительным скуластым лицом. Остроконечный шлем делал его совсем похожим на татарина. — О, простите, господин полковник…
— Входите, входите, Альгрэн, — сказал полковник.
Вошедший отдал ему честь. Альгрэн, молодой историк, одним из первых стал регулярно читать лекции в барачном университете, в то время, когда театр еще только создавался. Не имея ни книг, ни записей, всегда голодный, он вскоре снискал всеобщее уважение своими знаниями, красноречием. ловкостью, с какой он издевался над немцами, рассказывая, например, о чертах сходства Магомета с Гитлером или анализируя с непритворным восхищением механику прусской политики после Иены, что было небезопасно. Старшие коллеги, недовольные его успехами, так редко выпадающими на долю преподавателей, обвиняли его порой в модернизме, в том, что он заигрывает и слишком приноравливается к своей аудитории, не упоминая при этом о смелости его выступлений, о бесстрашии и справедливости его суждений.
— У меня лекция, но сейчас еще слишком рано, — объяснил Альгрэн. — Я хотел зайти к вам, но боюсь помешать…
— Ничуть, — сказал Франсуа. — Садись, Альгрэн. Я как раз пытаюсь втолковать этой прирожденной девке, Камиллу, что есть разница между женственностью и непристойностью.
— Как это верно! — согласился Альгрэн. — Ну-ка, посмотрим…
— Давай твою реплику, — сказал Франсуа.
Камилл показал ему язык.
Альгрэн с шутливым удивлением раскрыл глаза, словно подсмотрел какой-то секрет, которого нельзя разглашать, и уселся на табурет.
— «Вот наши чемоданы! — начал Камилл. — Я голодна, как волк. Жерар уверяет, что здесь поблизости есть превосходный кабачок, который славится утками с лимонным соком». Так хорошо?
— По-моему, вполне прилично, — заметил Альгрэн.
— Так лучше, — согласился Франсуа. — Если он наденет платье, которое прислала Жанна Ланвен, пожалуй, сойдет.
— Как, — воскликнул Камилл, — есть платье от Жанны Ланвен, а мне ничего не сказали? Покажите его! Где же костюмерша? Костюмерша!
Репетиция приостановилась. Камилл непременно хотел посмотреть красивое платье, присланное из Фобур-сент-Оноре, и Ванэнакер надел его на манекен. Этот храбрый офицер, который вместе с Франсуа до конца отстреливался из автомата и последним из всего бравого батальона сложил оружие, этот могучий неуклюжий человек исполнял теперь обязанности портнихи. Впрочем, его гражданская профессия имела касательство к портняжному ремеслу и к другим мирским занятиям: Ванэнакер был фабрикантом и торговцем церковной утварью и поэтому умел скроить ризу или сутану.
На его огромных квадратных ладонях лежало воздушное женское платье яркой расцветки, напоминавшее рисунки Дюфи. Оно выглядело так изящно, так необычно, что вести дальше игру, которая была им необходима, чтобы продолжать жить, казалось почти невозможным. Это было похоже на то, как если бы карлики стали изображать нормальных людей и сами поверили себе, а потом неожиданно среди них появился человек нормального роста.
Камилл взял из рук Ванэнакера картонный лифчик, которому предстояло изображать прелести легкомысленной Адэ. Он был выпуклый, округлый, но такой жесткий! Камилл постучал по нему согнутым указательным пальцем, послышался глухой звук.
— Ну конечно, — сказал Альгрэн, — надо иметь мужество признать, дорогой Ванэнакер, что есть вещи, которые невозможно воспроизвести. Я, конечно, отнюдь не беру под сомнение искусство «раскладных», но…
«Раскладными» называли Ванэнакера и Параду. Они удивительно подходили друг к другу — один блондин, другой брюнет, оба одинаково рослые, около метра девяносто. У Параду, бывшего студента Центрального технического училища, были удивительно ловкие и умелые руки, он постоянно что-то мастерил из жестяных консервных банок, так же как Ванэнакер — из дерева и картона.
В дверь снова просунулась чья-то голова, и человек с добродушной усатой физиономией, похожий на угольщика, спросил:
— Ван, двух больших гвоздей не найдется?
— Нет, — сердито закричал Ван.
— Мне нужно полку прибить, — спокойно продолжал тот. — Я сделал полку, а она сегодня ночью свалилась мне на башку…
— Нет, хватит, довольно! Лезут ко мне со всех сторон… Нет у меня гвоздей! И инструмент больше никому давать не буду. Недавно какой-то подлец взял у меня стамеску и вернул мне ее зазубренной. Не дам, да и все! — И тут же сразу, без перехода: — Сколько штук тебе надо?
— Четыре, — с грустью сказал вошедший. — И кроме того, мне понадобятся кусачки.
— Кусачки! — вздохнул Ван, задетый за самое больное место. Он поднял руки к небу, как бы призывая его в свидетели, но сказал: — Приходи после ужина!
Камилл снял китель и остался в шерстяном свитере цвета хаки, который облегал его тонкую талию и плечи, слишком широкие если не для мужчины, то для женщины. Он приложил картонный лифчик к груди, поглядел на него, опустив подбородок, и, подражая капризной кинозвезде, закричал:
— Костюмерша! Послушай, Ван, помоги мне, я не могу так… Я буду жаловаться в Союз актеров!
Ван стал прилаживать лифчик. Огромные руки с прямоугольными пальцами работали поразительно ловко.
— Ты меня щекочешь, — сказал Камилл.
— Я тебе уже говорил, прибереги свою кокетливость для сцены, — сказал Франсуа. — Оставь это платье, и будем продолжать репетицию.
Однако у младшего лейтенанта Камилла, как у настоящей женщины или у настоящей кинозвезды, воплощающей самую природу женственности, были свои капризы, и он не успокоился, пока не примерил платье, приложив его к груди. Он смотрелся в большое зеркало, составленное из множества кусков, повернулся, качнул бедрами и легким движением руки выпустил на лоб светлую челку.
— По-моему, от такого зрелища кровь в голову бросается, — сказал Альгрэн. — Не понимаю, как вы можете привыкнуть к этому! Или, если угодно, наоборот — не следует ли опасаться, что вы к этому привыкнете, так же как и актеры елизаветинского театра. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Что вы думаете об этом, полковник?.
— Я, как вы знаете, старый солдат, — ответил Маршандье. — Гм! В сущности, я хочу сказать, что в 1924 году у нас в Марокко, в пустыне, я навидался театральных представлений…
В глазах у полковника зуавов промелькнула подозрительная искорка. Он покраснел и тяжело задышал.
— Простите, господин полковник, — перебил Альгрэн, — так же, как и у елизаветинцев, они у вас были, наверное, помоложе, я имею в виду актеров…
— Ах, скотина! — сказал Камилл с удивительно правдивой интонацией.
— Вот это самое и требуется, — воскликнул Субейрак. — Эта самая интонация и нужна! Давай твою реплику! И тон, и голос, и жест — как раз то, что нужно. Ну, давай…
Камилл послушно начал:
— «…утка с лимонным соком. А потом, ночью, мы поедем в Париж. Обожаю ночную езду…»
Потому ли, что за последние десять минут стало заметно темнее — с Балтики или из России двигались темные тучи, — потому ли, что до них доносились изысканно-прихотливые звуки чьей-то импровизации на рояле, или благодаря магическому воздействию актерской игры и снисходительности этих мужчин, лишенных женского общества, — как бы то ни было, несколько секунд иллюзия была полной — среди них появилась женщина.
Франсуа ликовал. Может быть, все-таки удастся поставить пьесу Салакру. Он снова начинал верить в успех при виде этого чудесного превращения… Волнуя всех своей искренностью, Камилл продолжал:
— «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу…»
— Нет, — тихонько перебил Франсуа. — Дальше не идет. Ты срываешься как раз на словах «запрокинуть голову». Ты смущен. Ты забыл, что ты женщина. Начинай снова. Больше чувственности.
— «Прильнуть к человеку, которого любишь, запрокинуть голову к небу…»
— Нет, это декламация!
Камилл снова повторил. Еще менее удачно.
— Сухо, черт возьми, не идет! Надо увлажнить! — воскликнул Франсуа в отчаянии.
В мастерской раздался взрыв смеха: у Франсуа появилось такое чувство, словно после долгого замедленного падения он, одетый в лагерную форму, очутился в другом мире, неизвестно как и откуда попав в эту странную комнату. Почему они смеются? Он оглядел полутемную мастерскую, и на его лице было написано такое удивление, что все, во главе с полковником Маршандье, захохотали еще громче. Он понял, наконец, двусмысленность своего восклицания. Конечно, товарищи правы, это смешно.