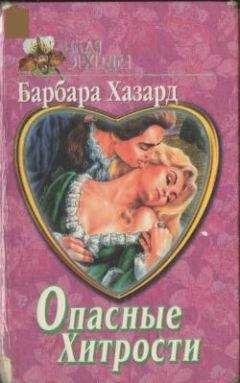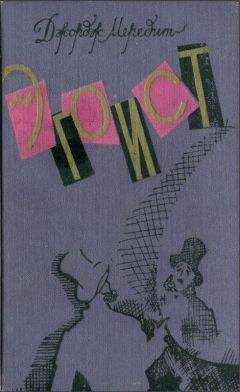Арман Лану - Майор Ватрен
— А ты когда-нибудь ел утку с лимонным соком?
— Нет.
— Я тоже. Ничего не могу поделать с собой, Франсуа, меня всего так и разбирает.
Камилл с наглым видом оглядел Франсуа Субейрака. Имя «Камилл» принадлежало не женщине — так звали юного младшего лейтенанта с волосами соломенного цвета и голубыми глазами.
Форменная одежда из грубой шерсти, выданная французской администрацией лагеря взамен элегантного кителя, изношенного до нитки за двадцать два месяца плена, не изменила его женоподобного облика.
Камиллу было двадцать три года, но ему давали не больше восемнадцати. На груди у него красовалась ленточка военного креста с красными полосками — пленные испытывали отвращение к черно-зеленым траурным полосам, введенным правительством Виши. Эта ленточка вызывала такое же недоумение, как знак Почетного легиона на декольтированном лифе актрисы.
— Что поделаешь, — сказал Камилл, — ты сам виноват. Я создан для того, чтобы играть «Дом Телье», а не Ундину или Адэ.
Офицер-актер рассмеялся коротким нагловатым смешком кокотки. Потом он обернулся и крикнул, обращаясь к кому-то в глубине барака, превращенного в мастерскую, где были свалены в кучу старые декорации, картонная мебель, костюмы из мешковины, инструменты, краски:
— Тото, что будет сегодня на ужин?
Дверь в виде арки, изображавшая вход в роскошный салон, приотворилась, обнажив косяк из некрашеного дерева, оклеенного бумагой.
В щель просунулась голова Тото. Это был лейтенант Тома Каватини, полковой товарищ Франсуа Субейрака, бывший вместе с ним в Со-ле-Ретель в дни агонии бравого батальона. Каватини, преждевременно поседевший, с веселой улыбкой на добром, круглом, румяном лице, стал перечислять:
— Баланда из медвежьей требухи и бисквиты Петена.
— Я заявляю, что это преступление, — сказал Камилл. — Тото, сделай нам этуф-кретьен.
— К черту, — сказал Тото. — У меня нет времени. У меня урок немецкого.
Франсуа, руководивший этой необычной труппой, вежливо обратился к старшему офицеру, полковнику зуавов, который сидел в глубоком кресле, столь же роскошном, как и дверь, Это кресло — чудо изобретательности — один из пленных смастерил из дерева, картона и старых рессор, подобранных на свалке.
— Господин полковник, — объяснил Франсуа, — лейтенант Каватини изучает немецкий язык. Наш уважаемый коллега Тома Каватини заметил, что как только он начинает изъясняться на языке Гёте, то перестает заикаться.
— Maul zu! — заорал Тото повелительным тоном. — За-за-заткни глотку, Субей! — перевел он.
— И все-таки, если не будет этуф-кретьена, я не буду репетировать, — по-женски капризно произнес Камилл. — Не воображаете ли вы, что я на пустой желудок стану из кожи лезть, чтобы создать у этих господ иллюзию, будто они находятся в женском обществе?
Этуф-кретьен — был кулинарным шедевром лейтенанта Каватини, который ведал питанием в их бараке и покровительствовал театральному коллективу. Рецепт этого блюда был прост: петеновские бисквиты, — называемые так потому, что их присылало вишистское правительство, — следовало размочить в воде, прибавить сгущенного молока (если оно имелось), сахара и шоколада, а затем все вместе варить на медленном огне.
— Нет, — сказал Тото, по-прежнему стоя в дверях. — У меня кончился сахар. В-в-вот уже десять дней, как не было по-по-посылок, мы так не дотянем до следующего раза. Вы все в-в-в…
— Вдовы, — моментально подсказал Камилл и, грациозно повернувшись на одном каблуке, добавил: — и притом веселые вдовы!..
— В-в-волки ненасытные, вот кто! — поправил Тото.
— Каватини, — сказал полковник, — сделайте одолжение, сходите в контору и попросите лейтенанта Жийуара выдать килограмм сахара из моего личного запаса.
Труппа рассыпалась в благодарностях. Камилл сделал реверанс, подхватив двумя пальцами у колен свои бесформенные грубые штаны.
— Ну вот, — тотчас вскрикнул Франсуа, — ну вот! На сцене у тебя нет ни капли женственности, потому что ты переигрываешь, а вот когда ты просто дурочку валяешь…
— Тогда я вновь обретаю присущее мне очарование, — нежным голосом сказал Камилл. — Вы грубиян, мой миленький режиссер.
Хлопнула дверь — это Тото отправился за сахаром, который предложил полковник. В барак проникла струя свежего воздуха — было все еще морозно, хотя и стоял апрель.
Театральная труппа получила этот барак благодаря полковнику Маршандье, старшине лагеря. Барак был разделен на четыре больших помещения, или как их называли — «штубе»[28]. Одно из них целиком отвели под театральную мастерскую, другое служило для репетиций и собраний, третье и четвертое предназначались для вестовых. Вестовые были предусмотрены женевской конвенцией, но так как один вестовой приходился примерно на тридцать офицеров, то его услугами пользовались лишь теоретически. Театральная труппа, которой руководил Франсуа Субейрак, уже имела свою историю. С первых же дней плена коротким пыльным летом 1940 года в Померании Субейрак стал принимать участие в импровизированных спектаклях. Офицеры, удрученные поражением и пленом, лишенные книг, ничем не занятые, с вечно пустыми желудками, бродили по лагерю, тупея от безделья. Представления под открытым небом положили начало будущему театру.
Конвой, доставив эшелон пленных в лагерь, удалился. Оставшись на рассвете в пустынных дюнах Померании, пленные сами не отдавали себе отчета в том, как велика их оторванность от мира. Почти все общественные связи, соединяющие людей, нарушились. Сохранялась лишь общая для всех военная форма, в такой же мере обесчещенная поражением, в какой она была истрепана войной. Известия о падении Парижа и о перемирии уничтожили последние связи воинского порядка. Оставалось лишь сообщество людей, объединенных недавней совместной боевой жизнью и пленом.
Это отчетливо проявлялось в беседах, которые вели между собой пленные. В продолжение долгих месяцев разговоры бесконечно возвращались к военным воспоминаниям. Четыре тысячи офицеров образовали не менее тысячи маленьких однородных ячеек. Под хриплые звуки громкоговорителя, сообщавшего по-немецки о трагедии Мерс-эль-Кебира, продовольственная комиссия занялась распределением присланных кем-то продуктов, в лектории устраивались лекции, создался хор, библиотека начала сбор книг, появился оркестр.
Наконец, возник и театр, естественно предназначенный для того, чтобы заполнить вынужденный томительный досуг, тянувшийся с рассвета и до того часа, когда выключался свет. Трудно установить, что именно было сделано тем или иным из участников, но уже 14 июля 1940 года, меньше чем через месяц после прибытия в лагерь, первые актеры вышли на самодельную эстраду. За неимением пьес и даже хотя бы одноактных шуток исполнялись под аккомпанемент плохонького рояля куплеты из популярных песен; декорациями служили скрещенные еловые ветки. Ни кулис, ни освещения, ни грима, ни костюмов — театр появился на свет убогим и нищим и этим напоминал своих создателей.
Пятьдесят веков материального прогресса были пройдены ускоренным темпом за полгода, и таким образом удалось почти нагнать современный театр. Бордосские сказы, бретонские песни и народные вальсы уступили место «Рождеству на площади» Анри Геона, «Сверкающей реке» Моргана и «Топазу» Паньоля[29]. Оставалось лишь одно препятствие — как поставить спектакль без участия женщин? Зрители и актеры — мужчины, но где же найти инженю и героинь? В первых спектаклях актеры, неуклюже носившие женское платье, вызывали смех, едва только выходили на подмостки. Всякая иллюзия пропадала. Женщины на сцене выступали в качестве неподвижных, безгласных персонажей. Потом мало-помалу режиссеры-самоучки осмелели. При содействии декораторов, бутафоров, костюмеров, которые умудрялись делать довольно сносные парики из мешковины, эти манекены стали оживать.
Вскоре «героини» научились ходить, танцевать и даже произносить несколько слов фальцетом, не вызывая при этом хохота у беспощадных зрителей.
Младшие лейтенанты довольно свободно исполняли женские роли, воскрешая традиции елизаветинского театра. Франсуа замышлял совершить переворот и поставить спектакль с настоящей большой женской ролью, сыгранной естественно, без фальши. Он понимал, что это очень рискованная затея.
Маленькие глазки полковника Маршандье, окруженные морщинками, доброжелательно улыбались, и он, поддерживая игру, ответил на реверанс Камилла, не опасаясь умалить свое достоинство.
— Ваш режиссер кое в чем прав, мой милый, — сказал он. — Вы не очень гибки в роли этой Адэ… Да, я вспомнил! Видите ли, друзья, однажды, в начале войны, я смотрел какую-то пьесу Салакру в Марокко, в пустыне… Ее играла передвижная труппа, которая…
Щедрость полковника по отношению к театру своего блока (лагерь военнопленных состоял из четырех блоков, и в каждом из них имелся свой театр) была очевидна, но рассказы полковника всем надоели. Так как он говорил негромко, Камилл сделал вид, что не слышал последних фраз, и, состроив очаровательную гримасу, показал в оправдание на свой костюм: