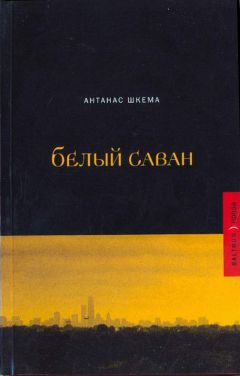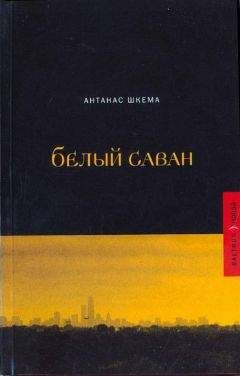Антанас Шкема - Белый саван
«Я нажму кнопку звонка, и дверь откроется. Скорей, я не стану прятать пальцы. Завтра».
Боль какая-то назойливая. Макушка просто горит. Но страха нет. Зато покоя тоже как не бывало. Боль и безразличие. Внезапные покалывания, и затем внутри глухо перекатывается ком. Этот ком все растет, сейчас он прорвет оболочку, вырвется наружу. Перо больше не скрипит. И таблеток, как назло, нет. Гаршва встает, идет на кухню и возвращается со стаканом. Выпивает виски «Белая лошадь». Снова садится к столу. Снова берет ручку.
Женщина в белом играет. О felix culpa quae talem ас tantum meruit habere redemptorem. Две усопшие души и клавесин. По гранитным ступеням бегут позолоченные статуи. Факелы у них в руках погасли. И радуются скульптурные головы дворян. Эй, ridij augo! Эй, felix culpa! Я люблю голубые жилки на твоих ногах. Мокрые ресницы. Меч Тристана и Изольды, родинку у тебя на шее. Lioj.
По песку ползут янтарные жучки. К морю. В голубую Балтию. «Ой, цвети, белая яблонька», — поет душа, одетая в белый саван. О felix culpa! Мои детство, жизнь и смерть. Lioj.
Боли уже нет. Внутри огромный ком. Он даже не помещается в мозгу, он застрял в черепе. «Надо ехать к доктору Игнасу», — мелькает спасительная мысль. Гаршва торопливо надевает костюм. Пальцы не слушаются. На брюках заело молнию, но все-таки с нею удалось справиться. Галстук? Он ни к чему. Деньги? На столе лежит восемь долларов. На такси хватит.
Рыжий человек из лифта. Вспомнился вдруг почему-то. А может, он — смерть? Или Господне предупреждение?
Господи, Ты видишь, как я несчастлив.
Я знаю, что поздно, но все равно спаси меня.
Я обещаю.
Я порву свои записки, свои стихи.
Не буду думать о том, о чем нельзя размышлять смертным.
Буду молиться.
Уйду в монастырь.
Господи, хоть на пороге смерти помоги мне.
Я верую. Я верю. Ты прощаешь в последнюю минуту.
Отпускаешь грехи всей жизни.
Боже, Боже, в Твои руки…
Го-о-о-осподи-и-и-и!..
— Зоори, Зоори, — шепчет Гаршва.
Где этот Зоори? Кто этот Зоори? Почему существует Зоори? Я потерял Зоори. Помогите мне найти его! Может, он улетел? Пасите! Антанас Гаршва визжит. Он орет. И колотит кулаками в стену. Выскакивают кнопки. Репродукция Шагала взлетает кверху и теперь висит вверх ногами.
* * *По мосту идет Stanley. Он слегка покачивается, порожнюю бутылку из-под Seagram’ он выбросил в East River. Stanley докуривает сигарету, отшвыривает ее прочь и оглядывается. На мосту пусто. В самом конце его виднеется удаляющийся человек. Stanley облокачивается на перила и смотрит на Великий Нью-Йорк. Скала громоздится на скале. Небоскребы. Плывут лодки и буксиры. Вдалеке торчат трубы. Громыхает по рельсам поезд. Он несется на большой скорости.
Stanley осторожно перекидывает ноги через перила. На воду он не смотрит. «Idź srać», — говорит он и молча летит вниз.
Без нескольких минут двенадцать. Гаршва сидит на цветастом линолеуме. Он в раю. У подножия голубых гор. Вокруг цветут цветы, и большие бабочки лениво машут крыльями, точно опахалами. Гаршве хорошо, прохладно. В руке у него роза. Лицо мертвой женщины. Лепестки легкие, как занавески. Гаршва держит лист бумаги и рвет его на узкие ленты. У него счастливое лицо. Лицо тихого идиота. Он нюхает бумагу. Вместо лица у него морда шиншиллы.
По-прежнему поднимается вверх книжная пыль. Солнечный луч освещает голую стену, репродукция болтается теперь в тени. Чистый небесный цвет. Уютно.
1952–1954 годы
СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ
Умирают в рамах головы дождей.
Буквы молятся на камнях.
Запах вянущих роз исходит дрожью.
Отзвук песен войны зачах.
И мертвецкой разит история.
Стеклянный человек
На странице распластался летящий ангел, очень длинный и бледный. Прямо ему на ноги кто-то поставил стакан с водой, которую так и не выпили. Стены обиты темно-коричневой материей. Три светлых квадрата выделяются на темном фоне: окна с закрытыми ставнями и дверь. Посреди комнаты — стол. У стола отец с матерью. Отец высокий и сутулый. Голова у него маленькая, птичья, виски седые. Отец необычайно подвижен. Руки у него постоянно ходят ходуном, шелестят переворачиваемые страницы газеты. Мать восседает, подобно статуе, подперла голову руками, взгляд устремлен на кровать. Иссиня-черные волосы зачесаны наверх, раскосые глаза прикрыты ладонями, сквозь растопыренные пальцы влажно поблескивает напряженный взгляд. Ее высокая грудь ритмично вздымается, зеленый абажур керосиновой лампы заливает лицо мертвенным светом, и стеклянный человек в углу — улыбается. Он стоит неподвижно и улыбается широко раскрытым ртом. Во рту у него нет зубов, пиджак на нем ярко-красный, а на голове островерхая голубая шапочка с золотым пузырьком. Такие шапочки носят сказочные волшебники. Сквозь стеклянную фигуру Мартинукас ясно видит поникшие листья фикуса. Они напоминают вислые уши собаки дворника, которая торчит возле конуры. Мартинукас не помнит, когда этот стеклянный человек появился в углу. Наверное, он нужен, раз родители не прогоняют его прочь.
Мартинукас лежит в постели. Ему жарко, в ушах звенит. Непрерывное шипение, звук, напоминающий приглушенный пых самовара, с шумом отдается у мальчика в ушах. В комнате тихо, поскольку настенные часы остановились. Остановились они несколько дней назад, и починить их некому. Обе стрелки на циферблате слились в одну. Мартинукас знает — часы показывают ровно двенадцать. Который сейчас час, мог бы сказать отец — свои серебряные часы он засовывает в кармашек жилета. Шелестит газета у отца в руках, а мать по-прежнему сидит, подперев белыми руками иссиня-черную голову.
Временами на улице раздаются глухие шаги. И тогда отец слегка разворачивается к закрытому ставнями окну и ждет, пока шаги удалятся. Затем снова шуршит газетой. Стеклянный человек замер в углу с раскрытым ртом, и Мартинукас боится, что если золотой пузырек шевельнется, случится что-то страшное. Поэтому Мартинукас поворачивает голову и видит раскрытую книгу на круглом столике рядом с кроватью. Кроме того, на столике стоит бутылка с приклеенной красной бумажкой. Точь-в-точь язык у собаки дворника. Мартинукас усмехается и продолжает разглядывать книгу. Бледный ангел все так же устремлен ввысь. Писатель, что написал эту книгу про ангела, — очень хороший, жил он на Кавказе и фамилия его… Мартинукас старается вспомнить фамилию, и тотчас в нем возникает желание взглянуть на стеклянного человека. А вдруг золотой пузырек уже шевельнулся? Мартинукас наконец отваживается поглядеть в угол, но тут наплывает зеленая мгла от лампы, и мальчик засыпает.
Худой, раздраженный мужчина комкает газету. Он резко откидывает голову назад, и стул под ним скрипит. Женщина с иссиня-черными волосами приподнимает голову и взглядывает на него своими раскосыми, монгольскими глазами. Зрачки у нее черные, скулы на лице выдаются, изгиб губ нежный, теплый, какой-то уютный, губы очерчены так, что их хочется целовать долго-долго.
— Ребенок спит, — оправдывается мужчина язвительным тоном. — Ничего не понимаю. Они пишут о победе, а в пригороде уже…
Он вскакивает со стула, но, вспомнив про ребенка, выпрямляется с откровенной медлительностью. Потом на кончиках пальцев, раскачиваясь, подходит к кровати, подобно злой птице с острым профилем, с тонкой шеей и стальным взглядом. Огладив костлявой рукой свою бороду клинышком и подкрутив левый ус (а усы у него пышные, ухоженные), он возвращается назад.
— Ребенок спит спокойно.
— У него тридцать девять и девять.
Женщина произносит это приглушенным грудным голосом, уголки ее губ опустились.
— У детей всегда высокая температура, — говорит мужчина и замирает, скрестив на груди руки. Его поза напоминала привычную манеру адвоката, именно люди этой профессии любят застывать в таком положении после эффектно произнесенной речи.
В тишине гулко отдается эхо шагов, слышно, как они приближаются, а в жилетном кармашке все тикают и тикают часы, и руки мужчины поначалу бессильно повисают, но потом он спохватывается и засовывает их в карманы брюк. За окном кто-то переговаривается, шаги вдруг обрели голос, однако ставни плотно закрыты, рамы двойные, так что слов не разобрать. Шаги затаились там, снаружи, женщина сбрасывает с плеч черный, шелковый платок и накидывает его на зеленый абажур. Комната наполняется сумраком, и двое людей как бы растворяются в нем. И пока женщина стоит неподвижно, мужчина нервно комкает пальцами подкладку карманов.
— Если они постучат, я выстрелю, — шипит мужчина, хотя прекрасно знает, что никогда этого не сделает. Знает это и жена, поэтому своим полным телом прижимается к острому локтю мужа.
— Если они ворвутся, ты пойдешь на кухню и выбросишь револьвер в окно. А я скажу: у нас болен ребенок.