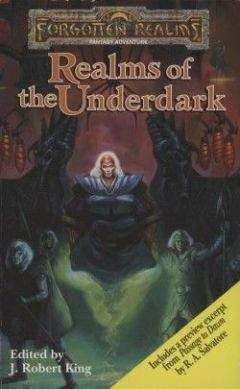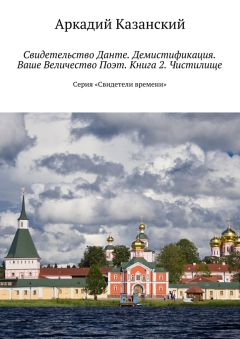Николай Самвелян - Крымская повесть
Частник не ошибся в П. П. Шмидте. Когда крепостная артиллерия открыла огонь по катеру и по крейсеру, П. П. Шмидт скомандовал:
— Комендоры по местам!
Вести ответный огонь могли лишь четыре (по другим сведениям — три) орудия «Очакова». Да и зарядов было буквально на несколько выстрелов. Но «Очаков» не сдался, не спустил красный флаг. Он пытался вести ответный огонь по крепостным батареям даже после того, как на него обрушился невиданный по интенсивности шквал огня и металла. Опытные морские офицеры утверждали, что подобного еще не было ни в одном из морских сражений. Представлялось невероятным, что крейсер, несмотря на сотни прямых попаданий и пожар, продолжал держаться на плаву.
П. П. Шмидт отдал команде приказ покинуть корабль. Сам, вместе с пятнадцатилетним сыном, которого накануне взял с собой на крейсер, пытался спастись вплавь. Но был контужен и схвачен. Ни во время первых допросов, ни в месяцы, которые ему довелось провести на острове Березань в каземате Очаковской крепости, мятежный лейтенант не «раскаивался в содеянном», как писали в ту пору близкие к правительственным кругам газеты. Делалось это с целью принизить П. П. Шмидта, объявить человеком импульсивным, не ведающим, что он творит. На деле все было иначе: П. П. Шмидт, С. П. Частник, А. И. Гладков и Н. Г. Антоненко до конца остались верными своему долгу, на суде подтвердили, что действовали сознательно — так, как велели им совесть и убеждения.
Никто из них не просил пощады.
— Я выполнял долг свой, и если меня ждет казнь, то жизнь среди народа, которому изменил бы я, была бы страшнее самой смерти, — заявил П. П. Шмидт на суде. — Я знаю, что столб, у которого встану я принять смерть, будет водружен на грани двух разных исторических эпох нашей родины… Позади за спиной у меня останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, обновленную, счастливую Россию.
Эти слова были произнесены 17 февраля 1906 года, а через полмесяца, 6 марта, на западном берегу острова Березань были вырыты четыре могилы. Около могил стояло четыре открытых гроба. В две линии расположились взводы Очаковской крепостной артиллерии — всего 5 взводов. Если корабельный взвод отказался бы открыть огонь, солдаты, находившиеся во второй линии, должны были залечь и стрелять по «новым бунтовщикам». Была и еще одна сверхсекретная инструкция. В случае, если во время казни возникнут беспорядки, старшие во взводах должны были лично застрелить в упор приговоренных, не ожидая действий солдат.
Осужденных подвели к столбам, врытым у могил, хотели завязать им глаза. Но все четверо отказались. Перед командой «пли» Сергей Частник крикнул:
— Прощайте, Петр Петрович!
— Прощайте, друзья! — ответил П. П. Шмидт.
Через два дня из Петербурга во все города России полетела телеграмма за подписью министра внутренних дел П. Дурново. «Губернаторам и градоначальникам. Никакие демонстративные панихиды или демонстрации по поводу казни лейтенанта Шмидта ни под каким видом не должны быть допускаемы».
Получил подобную телеграмму и Ялтинский градоначальник, новоиспеченный генерал Н. А. Думбадзе. Но он и сам догадался, еще до инструкций из столицы, распорядиться, чтобы в гимназиях не прекращали занятий в память о Шмидте, на улицах не пели «Вы жертвою пали» и «других песен предосудительного содержания». Все пытался предусмотреть Н. А. Думбадзе, даже о пении вспомнил. Только о живописи расторопный генерал позабыл. А она-то и доставила ему немало хлопот!
Зауэр капитулирует
Зауэр неистовствовал. Зауэр заикался. Зауэр пыхтел, как забуксовавший паровоз. Разве такую картину он желал бы иметь в своем пансионате? Художник не выполнил условий заказчика. Речь шла о спокойном, тихом, ласкающем глаз море. А сотворено нечто непотребное. От такого моря веет не покоем, а напротив — беспокойством и какой-то нервностью. Вид картины тревожит, будоражит, наводит на мысли ненужные. Например, о вечности природы и кратковременности бытия каждого отдельно взятого человека, а нужно, мол, совсем противоположное.
— Что именно? — спрашивал Владимир. — Как это — противоположное? Написать такую картину, которая наводила бы на мысль, будто Вселенная — явление временное, а бесконечны и бессмертны лишь пациенты «Оссианы»? Чего конкретно вы хотите?
— Но я же сказал, — тряс щеками Зауэр. — Мне нужно спокойное море, а вы изготовили море, которое собирается через час или через два делать шторм.
— Да откуда вы взяли такое? Какая волна, какой оттенок, какое сочетание тонов наводит вас на такие мысли?
— Вот эта волна, и еще эта, — говорил Зауэр, тыча пальцем в полотно. — Они еще не сердитые, но которые собираются сердиться. Как это по-руссишь? Есть такое слово… но я забыл… Ага — притаившиеся, которые сейчас заволнуются, кинутся на берег и устроят здесь безобразие.
Владимир возражал, что Зауэру лишь мерещится подобное, а его восприятие картины слишком субъективно.
— А у моих пациентов восприятие есть объективное, что ли? — горячился Зауэр. — Каждый пациент есть субъект. Следовательно, и его восприятие картины тоже есть субъективное. Им нужно спокойное море.
— Что за логика? — пытался возражать Владимир. — Так я могу заявить, что каждый пациент есть объект, а потому его восприятие объективное.
— Какой объект? Объект чего?
— Ну, например, объект лечения… Или же объект эксплуатации со стороны хозяина пансионата. Ведь вы же с них взымаете плату, вдвое превышающую стоимость лечения!
— Ого! — воскликнул Зауэр. — Это попытка вести среди меня пропаганду! Я требую, чтобы вы мне приготовили спокойное, совсем спокойное море. Иначе буду жаловаться вашему хозяину.
Но господин Симонов после гибели дочери стал безучастен ко всему на свете, включая жалобы на собственных служащих. Зауэр долго втолковывал Симонову, что мир стоял и будет стоять на основах частной инициативы и частном предпринимательстве, а потому нельзя поощрять такие действия и такие слова, какие разрешает себе Владимир. Он не выполнил заказ, за который ему обещано хорошее вознаграждение. Это уж не забастовка. Это бунт!
Господин Симонов махнул рукой:
— А почем вы знаете, что говорите дело? Может, никакого предпринимательства и частной инициативы вовсе и не надо? До сих пор жили так, а с завтрашнего дня будем иначе… Мало ли что!
— Как такое можно понять? У вас магазин, фотография… Вы не имеете права единолично, не согласовав это с нами, плевать на святые принципы!
— А мне все равно наплевать! — заявил господин Симонов. — На святые принципы, на мой магазин и на мою фотографию. Сгорели бы они однажды!
Зауэр ушел, а Симонов пригласил Владимира в кабинетик.
— Умучил тебя немец?
— Ничего, отобьюсь!
— А то — возьми у меня. Швырни ему в лицо задаток. Пусть катится подальше вместе со своими деньгами, пансионатом и теориями!
— Спасибо, Александр Семенович, за участие, но, думаю, как-нибудь разберусь с Зауэром.
— Смотри… Ведь мне теперь все ни к чему — ни магазины, ни деньги, ни фотография. Хочешь, на тебя завещание составлю? Ну-ну, не хмурься! Знаю, что гордый. Сам был когда-то таким же. Только на собственные руки да на смекалку надеялся. И вроде не напрасно, а теперь видишь, как все обернулось.
Симонов открыл тумбочку стола. Послышалось характерное глухое позвякивание плохого стекла, так отличающегося от малинового звона хрусталя — горлышко бутылки ударилось о край граненого стакана.
Владимир возвратился в свою каморку и сел за станок ретушировать негативы. Пластинки были стандартные. Да и сюжеты одинаковые: два брата, сосредоточенно глядящие в объектив. Отец сидит в креслах, сын стоит за его спиной. У обоих на лицах — торжественность и умиление самими собой — тем, какие они нарядные, праздничные, совсем настоящие господа. Или же две подружки — полосатые блузки, украшенные воланами и прошивками, с бантами или перьями… Почему-то любили фотографироваться группами. Уж не потому ли, что в одиночку страшно появляться перед объективом? Будто бы сам себя отдаешь на суд времени.
Владимир работал чисто механически: где надо, соскребал ланцетом черноту, в других местах кисточкой наносил белила. И все виделись ему красноватый отблеск взрыва на месте, где только что плясал на волнах катер, лучи прожекторов, упершиеся в зияющие пробоинами борта горящего крейсера. И девушка с рукой, протянутой к выключателю. Никогда уже он не увидит ее глаз, не услышит голоса: «Лишь я одна тебя люблю! О, вспомни, вспомни, милый мой!» И не договорить того, что недоговорено, не спросить того, чего не успел спросить. Понять это было не так-то просто.
Несколько дней назад он попробовал спросить Александра о Марии. Тот вскинулся на подушках — бледный, тревожный.