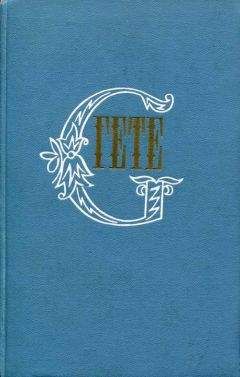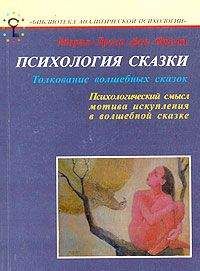Уильям Фолкнер - Звук и ярость
– Ну, – говорю я. – Поставь чашку в раковину и пойди сюда.
– Чего ты еще придумал, Джейсон? – говорит Дилси.
– Может, ты думаешь, что можешь плевать на меня, как на свою бабку и всех прочих, – говорю я. – Только ты ошибаешься. Даю тебе десять секунд, чтобы ты поставила чашку, как я сказал.
Она перестала смотреть на меня. И посмотрела на Дилси.
– Который сейчас час, Дилси? – говорит она. – Когда пройдет десять секунд, ты свистни. Только полчашечки, Дилси, пожа…
Я схватил ее за локоть. Она уронила чашку. Чашка разбилась об пол, а она рванулась и посмотрела на меня, но я держал ее за локоть. Дилси поднялась со стула.
– Джейсон, кому я говорю, – говорит она.
– Отпусти, – говорит Квентин, – не то я тебя ударю.
– А, – говорю, – ударишь? Значит, ударишь? – Она замахнулась. Я схватил и эту руку и держал ее, как дикую кошку. – Значит, – говорю, – ударишь? Думаешь, ударишь?
– Джейсон, кому я говорю! – говорит Дилси.
Я поволок ее в столовую. Кимоно у нее развязалось и хлопало, а она чуть не голая под ним. Дилси ковыляла следом. Я повернулся и ногой захлопнул дверь у нее перед носом.
– Ты не суйся, – говорю я.
Квентин прислонилась к столу и начала завязывать кимоно. Я посмотрел на нее.
– А теперь, – говорю я, – я желаю знать, почему ты прогуливаешь школу, и врешь своей бабушке, и подделываешь ее подпись в табеле, и расстраиваешь ее до того, что она совсем разболелась. Ну, так почему?
Она ничего не сказала. Она завязывала кимоно под самым подбородком, закутывалась в него и смотрела на меня. Она еще не успела намазаться, и лицо у нее было такое, будто она его протерла масляной ветошью. Я подошел и схватил ее за запястье.
– Так почему? – говорю я.
– Не твое собачье дело, – говорит она. – Отпусти меня, слышишь?
Дилси открыла дверь.
– Джейсон, кому я говорю, – говорит она.
– Убирайся отсюда, сказано тебе, – говорю я и даже не оглядываюсь. – Я желаю знать, куда ты ходишь, когда прогуливаешь школу, – говорю я. – По улицам ты не шляешься, не то бы я тебя видел. С кем это у тебя шашни? Прячешься в лесу с каким-нибудь прилизанным сопляком? Ты куда ходишь?
– Ты… ты погань! – говорит она. Она все время вырывалась, но я держал ее крепко. – Погань ты, погань! – говорит она.
– Я тебе покажу, – говорю я. – Ты можешь напугать старуху, но я тебе покажу, с кем ты сейчас имеешь дело. – Я перехватил ее одной рукой, а она бросила вырываться и только смотрела на меня. Глаза у нее становились все шире и чернее.
– Ты что? – говорит она.
– Погоди, вот вытащу ремень, и я тебе покажу, – говорю я, выдергивая ремень из брюк. Тут Дилси схватила меня за локоть.
– Джейсон, – говорит она. – Джейсон, кому я говорю! И не стыдно тебе?
– Дилси, – говорит Квентин, – Дилси.
– Я ему не позволю, – говорит Дилси. – Не бойся, деточка.
Она вцепилась в мой локоть. Тут ремень выдернулся, я высвободил локоть и отпихнул ее. Она ткнулась о стол. Она так стара, что еле ноги волочит. Ну, да это пусть: нужно же, чтобы на кухне кто-то доедал, чего не сожрут молодые. Она подковыляла к нам, встала между нами и опять давай хватать меня за руку.
– Ну, так бей меня, – говорит она. – Раз уж тебе надо кого-то бить. Бей меня, – говорит она.
– И думаешь, не буду? – говорю я.
– От тебя какой хочешь дьявольщины можно ждать, – говорит она. И тут я услышал шаги матери на лестнице. Уж мог бы я знать, что она в стороне не останется. Я разжал руки. Она попятилась к стене, а сама сжимает ворот кимоно.
– Ладно, – говорю я. – Отложим пока. Только не думай, что можешь плевать на меня. Я ведь не старуха и не полудохлая черная карга. Потаскуха ты поганая, – говорю я.
– Дилси, – говорит она. – Дилси, я хочу к моей маме.
Дилси подошла к ней.
– Ну, будет, будет, – говорит она. – Он тебя и пальцем не тронет, пока я тут.
Мать сошла по лестнице.
– Джейсон, – говорит она. – Дилси.
– Ну, будет, будет, – говорит Дилси. – Я не дам ему до тебя дотронуться. – И положила руку на плечо Квентин. Квентин ее отпихнула.
– Черная погань, – говорит она. И бежит к двери.
– Дилси, – говорит мать со ступенек. Квентин побежала по лестнице мимо нее. – Квентин, – говорит мать. – Квентин, кому я говорю. – Квентин не обернулась. Я слышал, как она пробежала по верхней площадке, потом по коридору. Потом хлопнула дверь.
Мать было остановилась. Потом опять начала спускаться.
– Дилси, – говорит она.
– Ладно, – говорит Дилси, – сейчас иду. А ты заводи свою машину и подожди, – говорит она. – Отвезешь ее в школу.
– Не беспокойся, – говорю я. – Я отвезу ее в школу и присмотрю, чтобы она там осталась. Раз уж я начал, так доведу дело до конца.
– Джейсон, – говорит мать со ступенек.
– Иди, – говорит Дилси и идет к двери. – Ты что, хочешь, чтобы она начала? Сейчас иду, мисс Каролина.
Я вышел. И слышал, как они говорят на ступеньках.
– Идите-ка назад в постель, – говорила Дилси. – Разве ж вы не знаете, что вам еще нельзя вставать. Идите-ка ложитесь. А я пригляжу, чтобы она не опоздала в школу.
Я вышел черным ходом, чтобы вывести машину из гаража, и тут мне пришлось идти чуть ли не вокруг всего дома – устроились себе у парадного крыльца.
– По-моему, я велел тебе повесить колесо сзади, – говорю я.
– Я не успел, – говорит Ластер. – За ним же некому приглядывать, пока мэмми на кухне.
– Да, – говорю я. – Я кормлю целую кухню черномазых бездельников, чтоб они за ним ходили, но если мне нужно сменить шину, так я должен все делать сам.
– Мне ведь не с кем его оставить, – говорит он. И тут он начинает выть и пускать слюни.
– Уведи его за дом, – говорю я. – Какого черта тебе надо держать его тут на виду у всех? – В общем, я успел их спровадить до того, как он заревел во всю мочь. Хватит и воскресений, когда на этом проклятом лугу полно людей, которым только и дела, что гонять взад и вперед чертов мячик – ни тебе других забот, ни шестерки черномазых нахлебников. А он бегает у забора и ревет всякий раз, как их завидит: того и гляди, с меня начнут взыскивать плату за членство в гольф-клубе, и пусть мать с Дилси гоняют тростью пару фарфоровых дверных ручек, а то я и сам начну играть ночью с фонарем. Тогда нас всех отправят в Джексон. И можно будет отпраздновать воссоединение друзей и знакомых.
Я опять пошел за дом к гаражу. Колесо стояло у стены, но черт меня подери, если я стану его вешать. Я вывел машину задом и развернулся. Она стояла у дорожки. Я говорю:
– Я знаю, что учебников у тебя нет никаких, и просто хочу спросить, куда ты их девала, если только это меня касается. Конечно, у меня нет никакого права спрашивать, – говорю я. – Ведь я всего лишь заплатил за них в сентябре одиннадцать долларов шестьдесят пять центов.
– За мои учебники платит мама, – говорит она. – Твоих денег на меня и цента не истрачено. Я лучше с голода умру.
– Да? – говорю я. – Скажи это своей бабушке и послушай, что она скажет. Что-то вроде ты не совсем голой ходишь, – говорю я, – хоть эта штукатурка у тебя на морде и прячет куда больше, чем все прочее, что на тебе надето.
– Хоть один цент на это пошел из твоих или ее денег? – говорит она.
– Спроси свою бабушку, – говорю я. – Спроси ее, что сталось с этими чеками. Помнится, ты видела, как она один такой сжигала. – Она даже не слушала. Лицо у нее было все облеплено краской, а глаза злые, как у дворняжки.
– Если бы я подумала, что на это пошел хоть один твой или ее цент, знаешь, что я сделала бы? – говорит она и хватает себя за платье.
– Так что бы ты сделала? – говорю я. – Напялила бы на себя бочку?
– Я бы тут же разорвала его в клочья и вышвырнула на улицу, – говорит она. – Может, ты мне не веришь?
– Конечно, разорвала бы, – говорю я. – Ты только и делаешь, что их рвешь.
– Вот сам увидишь, – говорит она. Вцепилась в воротник обеими руками и дернула.
– Только порви это платье, – говорю я, – и я тут же на месте задам тебе такую порку, что ты до конца жизни не забудешь.
– Вот гляди, – говорит она. Тут я увидел, что она и в самом деле старается порвать его, содрать с себя. К тому времени, когда я остановил машину и схватил ее за руки, на нас глазело уже человек десять, не меньше. Это меня до того взбесило, что я на минуту как ослеп.
– Только попробуй еще раз, и ты у меня пожалеешь, что на свет родилась, – говорю я.
– Уже жалею, – говорит она. И перестала, а потом глаза у нее сделались какие-то странные, и я говорю себе: если ты заревешь тут, в машине, я тебя выпорю. Я тебя в порошок сотру. На свое счастье, она не заревела, а потому я выпустил ее руки и поехал дальше. Хорошо хоть, что мы были возле переулка и можно было свернуть и объехать площадь стороной. На участке Бирда ставили шатер. Эрл еще вчера дал мне две контрамарки за афиши в наших витринах. Она сидела, отвернувшись, и грызла губы.
– Уже жалею, – говорит она. – Не понимаю, зачем я вообще родилась.