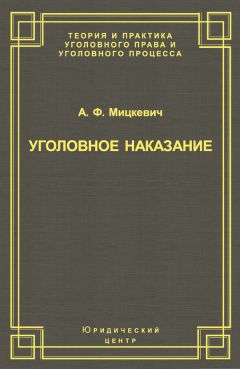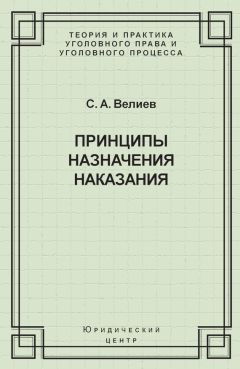Роберт Вальзер - Семейство Таннер
Но в горы он не отправился, вошел в старый, высокий, солидный, мрачный дом в переулке, постучал в одну из дверей и спросил у женщины, которая вышла на стук, не сдается ли здесь комната.
— Да, есть одна.
— Нельзя ли ее посмотреть, не слишком ли она велика и не слишком ли высока плата для небогатого человека?
Показав ему комнату, женщина спросила:
— Чем же вы занимаетесь?
— О, ничем. Я безработный. Но непременно сыщу место. Не беспокойтесь. Я заплачу вперед некоторую сумму, чтобы вы чувствовали себя более-менее спокойно. Вот, пожалуйста!
С этими словами он вручил ей довольно крупную купюру в качестве задатка. Пухлая рука с удовольствием приняла деньги, и женщина сказала:
— К сожалению, комната не солнечная, выходит в переулок.
— Меня это устраивает, — отвечал Симон, — я люблю тень. В этакую жаркую пору солнце в комнате совершенно невыносимо. Комната очень милая и, надо сказать, весьма дешевая. В самый раз для меня. И кровать вроде бы хорошая. О да. Извольте. Не будем долго проверять. Тут и платяной шкаф есть, куда более вместительный, чем нужно для моего гардероба, да еще и мягкое кресло, как я с радостью вижу, можно уютно посидеть. Действительно, если в комнате имеется этакое кресло, то, на мой взгляд, она обставлена поистине роскошно. Вдобавок картина на стене: я люблю, когда в комнате только одна картина, ведь тем внимательней можно ее рассмотреть. О, и зеркало есть, чтобы я мог видеть свое лицо. Хорошее зеркало, отчетливо отражает черты. Многие-то зеркала искажают отражение. А это просто превосходное. Здесь, за столом, я стану писать прошения по поводу места, которые разошлю в различные конторы. Надеюсь, мне удастся найти работу. Не вижу причин, какие могут этому воспрепятствовать, ведь мне уже не раз сопутствовала удача. Надобно вам знать, я частенько менял работу. Это изъян, и я надеюсь с ним покончить. Вы улыбаетесь! Да, но я говорю совершенно серьезно. Сдавши мне комнату, вы меня облагодетельствовали, потому что в такой комнате человек вроде меня может чувствовать себя счастливым. И я всегда буду стараться без промедления исполнять все мои обязанности перед вами.
— Я тоже так полагаю, — сказала женщина.
— Сперва, — продолжал Симон, — я хотел отправиться в горы. Но эта тенистая комната лучше самых белоснежных гор. Я немножко устал и хотел бы прилечь на часок, вы позволите?
— Ах, ну конечно! Комната теперь ваша!
— Да нет же!
И он лег спать.
Ему приснился странный сон, который еще долго занимал потом его мысли.
Дело происходило в Париже, но почему в Париже, он знать не знал. Сперва он шел по улице, сплошь усыпанной сочной зеленой листвою, так что дамские шлейфы с шуршанием увлекали ее за собой. Сверху зеленым дождем сыпались мелкие шепчущие листочки, а вокруг веял неизъяснимо мягкий ветерок, словно дыхание облаков. Дома были замечательно высокие, то серые, то желтоватые, то белоснежные. Мужчины, шагавшие по улице, все носили локоны до плеч, тут и там мелькали карлики в черных фраках и красных шляпах, до того маленькие, что могли прошмыгнуть у других меж скрещенными ногами. Дамы в платьях со шлейфами являли собою величественные фигуры, статные, куда статнее мужчин, а ведь и те казались весьма стройными. К стройным торсам дам были приколоты лорнеты, свисавшие до талии; густые, тяжелые волосы красивой волною облекали прелестные головки. Поверх причесок красовались крохотные шляпки с еще более крохотными перышками, но у иных перья были большие, пышные, ниспадающие, словно оттягивающие голову назад. А какие руки у этих женщин — чудо! До самого изящного локотка затянуты в длинные черные перчатки. Вообще, куда ни глянь, сплошные чудеса. Большие дома словно бы колыхались вверх-вниз, точно странные естественные кулисы в театре. Свет — полудневной-полусумеречный, предночной. Он подошел к дому, целиком увитому дикой зеленью. На вопрос, что это за дом, отвечали коротко: «Там живут красивейшие женщины Парижа». Как вдруг на улицу опустилось благоуханное белое облако. Он удивился: «Что это?» — и услышал в ответ: «Вы же видите, облако. Облака на парижских улицах не редкость. Но вы, наверно, чужеземец, коли вас это удивляет». Облако лежало на мостовой как белая пена, похожее на большого лебедя. Многие дамы подбегали к нему, отщипывали по кусочку и прелестными жестами прикрепляли к шляпкам или в шутку бросали друг дружке, так что они повисали на платьях. «Ох уж эти парижане! — думал он. — Посмеиваются слегка над удивленным чужеземцем. Но разве же и сами они не дивятся каждый день красотам своего города!» Потом явились зловредные парижские уличные мальчишки, принялись щекотать облако горящими спичками, тогда оно опять взлетело ввысь, легко и величественно, и исчезло в вышине над домами. Он снова устремил взгляд на улицу. В красивых ресторанах, разместивших часть столиков на тротуаре, сновали официанты в зеленых фраках, дамы пили кофе и разговаривали прелестными голосами. Поэты, стоя на подмостках, нараспев декламировали стихи, сочиненные дома. Все одеты в благородный коричневый бархат. Ничего смешного в них не было, отнюдь. Их представление всех забавляло, хотя особого внимания не вызывало, в Париже такое не принято. Красивые гибкие собаки бегали за людьми, причем вели себя так, будто знали, что в Париже надобно быть благовоспитанными. Поголовно все скорее парИли, чем шли, скорее танцевали, чем шагали, скорее летели, чем бежали. Тем не менее все вокруг бежали, шли, шагали и шествовали совершенно непринужденно. Природа, естественность словно бы поселилась на этой улице. Целые стада овец брели по улице, как по вечерней долине, под звон колокольчиков — бим-бим, бим-бим, — а следом пастухи в темной одежде. Затем явились коровы с большими бубенцами — бим-бам, бим-бум! И все же это была улица, а не горный луг, улица посреди Парижа, в сердце европейского щегольства. Кстати сказать, улица была широкая, как огромная широкая река. Внезапно стали загораться фонари, их зажигали маленькие шустрые мальчишки, с помощью запальников на длинных палках. Ими они сперва открывали вентили наверху фонарей, чтобы из трубок пошел газ, а затем поджигали его. Так и перебегали от фонаря к фонарю, пока не зажгли все. Теперь повсюду сияли огни, словно перемещаясь с движением народа. Какой волшебный, белый свет, а эти дьяволята-мальчишки, что его зажигали, откуда они выскакивали, куда убегали-исчезали? Где их дом, есть ли у них родители, братья, сестры, ходят ли они в школу, вырастут ли, женятся ли, заведут ли детей, состарятся ли и умрут? Все как один в коротких синих курточках и вроде как в резиновых башмаках, поскольку шныряли вокруг совершенно беззвучно. И вот исчезли. Теперь, когда свечерело, на преображенной улице стали видны диковинно-странные женские фигуры. Прежде всего внимание привлекали огромные прически из угольно-черных и светлых волос. А глаза у них блестели и искрились так, что смотреть больно. Самое же прелестное — их ноги, не спрятанные под юбками и шлейфами, а открытые до колен и только выше облаченные в шуршащие кружевные панталоны. От стоп почти до самых гибких коленей ноги были обтянуты высокими, сработанными из тончайшей кожи ботинками. Изящнейшими из всех, что под стать подвижной женской ножке. При одном взгляде на них он развеселился. Походка этих женщин отличалась восхитительной легкостью, но вместе и решительностью, и танцевальностью. Как они выступали — впору зарисовать и прочувствовать, это увлекало, притягивало, разжигало сладостные мечтания, пробуждало душу, заставляло размышлять о том, почему Господь создал женщин такими красивыми. Симон живо ощущал: живи боги на земле, что, впрочем, немыслимо, они бы непременно жили только в Париже. Как вдруг — он и ахнуть не успел — Симон очутился на резной лестнице темного дерева, которая привела его в комнату, где на диване лежала спящая девушка. Присмотревшись, он узнал Клару. Рядом спал котенок, девушка обнимала его рукой. Чернокожий слуга принес ужин, и Симон сел за стол, меж тем как откуда-то сверху, точно журчание драгоценного, хитроумного фонтана, струилась тихая, приглушенная музыка, то вдали, то подле его уха. «Странно угощают в Париже», — подумал Симон, с удовольствием, будто в сказке братьев Гримм, отведывая поданные блюда. Тут спящая проснулась. «Пойдем, я кое-что тебе покажу», — пролепетала она. Он встал, а она, словно мановением волшебной палочки, отворила двустворчатую дверь, во всяком случае, он не заметил, чтобы она шевельнула рукою. «Я теперь стала волшебницей, — улыбнулась она изумленному Симону, — не сомневайся, но и не страшись. То, что я покажу, вовсе не отвратительно». Он прошел с нею в соседний покой, ощутив ее благоуханное, теплое дыхание, и неожиданно увидел своего брата Клауса, который что-то писал за письменным столом. «Он прилежен, пишет труд своей жизни, — тихо сказала Клара. — Видишь, какое у него задумчивое лицо. Он полностью погружен в свои рассуждения о течении рек, истории и возрасте гор, извивах долин и земных пластов. Но теперь он порой думает о своем брате, о тебе! Смотри, как наморщился его лоб. Видно, он беспокоится о тебе, негодник! К сожалению, говорить он не может, иначе бы мы оба услышали, чтО он думает о тебе и о твоих поступках, которые его тревожат. Он любит тебя, ты только посмотри! Такой человек любит своего брата, хочет видеть его славным, уважаемым. Но как я погляжу, картина уже тает. Идем. Покажу тебе кое-что другое». С этими словами она палочкой, которую впрямь держала в руке, отворила вторую дверь, поменьше, — и Симон увидел свою сестру Хедвиг на ложе, застланном белой простыней. В этом покое чудесно пахло травами и цветами. «Посмотри на нее, — сказала Клара, и тихий ее голос дрогнул, — она умерла. Жизнь причиняла ей слишком много боли. Знаешь ли ты, каково быть девушкой и страдать? Я написала ей письмо, длинное, взволнованное, страстное, тогда, ты помнишь, а она уже никогда не поднимет руку, не ответит мне. Уходит, не ответив на вековечный вопрос: “Почему ты не приезжаешь?” Уходит без слов, по-девичьи и словно цветок! Она была такая милая. Ты, брат, ощущаешь это далеко не так, как я, подруга. Видишь, как она улыбается! Если б могла говорить, то говорила бы, наверно, дружелюбно. А раньше говорила строго. Сокрушаясь, прикусывала губки. Но по ее губам этого не заметишь. Верно, смерть поцеловала ее, оттого она и в смерти улыбается! Храбрая девушка. Умерла как цветок, который умирает, увянув. Идем дальше. В моем волшебном царстве нельзя глазеть. Скажи, я причинила тебе боль? Да нет же, разве в такой красивой смерти есть боль? Вы заставляли ее страдать, вот это причиняло боль. Я не хочу причинять тебе боль. Идем, ты увидишь кое-что другое». С этими словами она распахнула третью дверь, и Симону открылась просторная мастерская художника. Он почуял запах масляных красок, увидел на стенах картины брата, сам Каспар, стоя к нему спиной, работал у мольберта и, казалось, с головой ушел в работу. «Тише, не мешай ему, он работает, — сказала Клара, — творцам нельзя мешать. Я всегда знала, что он живет лишь ради искусства, еще в ту пору, когда думала последовать за ним, думала, что смогу последовать за ним. Нет, так лучше. Я бы лишь задерживала его, была помехой. Он должен забыть обо всем вокруг, даже о самом любимом, коли желает творить. Творчество требует отвергнуть всю любовь и привязанность, чтобы целиком отдать то и другое своим творениям. Тебе этого не понять, это понимает он один. Глядя, как я смотрю на него, ты ведь не думаешь, что мне хочется броситься в его объятия? Услышать, что он скажет, когда я шепотом, трепеща, спрошу: “Ты любишь меня, Каспар?” Он бы наверное приласкал меня, но я бы угадала на его прекрасном челе морщинку недовольства. И эта догадка толкнула бы меня, как проклятую навсегда, в позорную, грязную пропасть. Нет, Клара так не сделает. Слишком она для этого хороша, и он слишком мил и хорош такой, как есть. Вот я и стою у него за спиной, спокойно гадая, как он творит, как толкает вперед огромный, раскаленный, дымящийся шар искусства, словно превосходный борец, который испускает последний вздох, но одерживает верх над противником. Видишь, с каким упоением он водит кистью, под которой звенит тысячеголосый колокол его красок, как хочется ему сделать каждую линию еще четче, каждую краску еще ярче, каждый мазок еще увереннее и выписать каждый замысел еще более пылко. Его взгляд, который я так любила, был издавна увлечен формою, и здесь, в Париже, ему достаточно простенькой комнаты, чтобы запечатлевать мир в образах. Природу он, как щедрую возлюбленную, заключил в объятия и теперь осыпает ее рот поцелуями, так что у обоих — и у него, и у природы — перехватывает дыхание. Мне прямо-таки кажется, будто перед подлинными художниками природа бессильно и покорно отрекается от себя, как возлюбленная, от которой получают все, что заблагорассудится. Во всяком случае, Каспар, как видишь, работает — рассудком, чувством и обеими руками; точно дикий, неистовый конь, он без устали работает, даже ночью, в сумбурных снах, продолжает работать, ибо искусство жестоко и кажется мне наитруднейшей задачей, какую может поставить себе честный и искренний человек, — ведь он творит на радость грядущим поколениям. И вздумай я навязывать ему мою слабую, жалкую любовь, сколь это было бы некрасиво и преступно. Вдобавок женщина не любит целоваться, коли чувствует, что меж поцелуями трепещут раненые мысли, умирают, задушенные поцелуями. Зачем же становиться безрассудною убийцей! А так все прекрасно; чуточку больно стоять за спиной, видеть плечи и локоны, зато можно слышать благовест колоколов в его душе и чувствовать сладостное правомочие и безупречность его положения на свете. Где-то ведь надобно приглушать чувства, наводить порядок, утверждать позицию. Слабая женщина и та точно знает, как ей быть в таком случае. Наблюдать за художником, задумчиво следить каждое его движение куда лучше, чем стремиться повлиять на него, будто алчно жаждешь урвать толику себе, значить что-то для него и для мира. Каждая позиция по-своему значительна, но недозволенные речи и вмешательство — никогда! Надо бы еще много тебе сказать. Однако ж пора, идем». Когда Клара повела Симона прочь, снова послышалась чудесная, непостижимая музыка, из всех комнат, со всех потолков и стен, словно далекая, прилетевшая из рощицы тысячеголосая песня птиц. Они вернулись в первую комнату и увидели, как черный котенок запускает лапку в узкогорлый кувшинчик с молоком. Увидев людей, он спрыгнул со стола, схоронился за стулом и устремил на них пристальный взгляд ярко-желтых глаз. Клара распахнула окно — какое дивное зрелище! На зеленой летней улице падал снег, да такими густыми хлопьями, что за его пеленою невозможно ничего разглядеть. «В Париже это не редкость, — сказала Клара, — снег идет здесь и в жаркую пору, здесь нет определенных сезонов, как нет и соответственных поговорок. В Париже надо в любую минуту быть готовым ко всему. Когда поживешь тут достаточно долго, ты тоже этому научишься и отвыкнешь от неуместного удивления. В Париже всё — быстрая, грациозная, скромная готовность. Уважение к миру — вот что здесь самое главное и благородное. Ты научишься. Например, этот снег: как по-твоему, ты можешь себе представить, что он засыплет эти высокие дома до крыш? А ведь так оно и будет, теперь мы, по всей вероятности, на целый месяц утонем в снегу. Ну и что с того — у нас есть свет, и в комнатах тепло. Я большей частью буду спать; волшебнице положено много спать; ты будешь играть с котенком или читать книгу, в моей библиотеке собраны лучшие парижские романы. У парижских авторов восхитительный слог, сам увидишь. А через месяц… кстати, у нас и музыка есть, верно?.. А потом, через месяц, на парижских улицах наступит весна. Тогда ты увидишь, как после долгой изоляции люди на улице обнимаются и плачут от радости встречи. Кругом сплошные объятия. Восторг, так долго сдерживаемый, выплеснется наружу, в блестящие глаза, губы и голоса, и в мае все станут целоваться, да ты и сам увидишь. Представь себе, уличный воздух нальется голубизной, влагой, теплом, небо станет гулять по Парижу среди восторженных людей. За один день расцветут все деревья, наполнят город ароматом, птицы защебечут, облака запляшут, а цветы замельтешат в воздухе, точно капли дождя. Найдутся и деньги в карманах, даже у самых нищих оборванцев. Однако сейчас я хочу спать. Видишь, глаза у меня слипаются. Ну а ты не теряй времени, изучи что-нибудь из произведений, какие найдешь здесь, пусть оно увлечет тебя на целый месяц. Здесь есть такие книги. Доброй ночи!» И она уснула. Котенок хотел устроиться подле нее, Симон попытался его поймать, но он увернулся, Симон попробовал еще раз, опять безуспешно, котенок всякий раз ухитрялся выскользнуть у него из рук. Симон запыхался от беготни — и наконец проснулся.