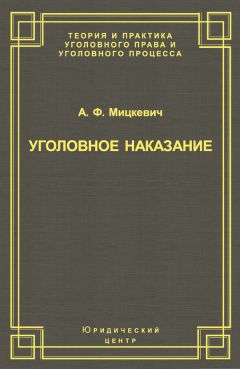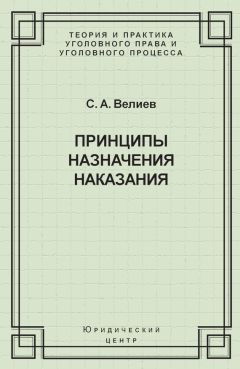Роберт Вальзер - Семейство Таннер
«Дорогой Каспар! Я снова в знакомом тебе городе, сижу за красивым столом темного дерева, в ярко освещенной комнате, а внизу, на улице, в летней ночи, под пышными кронами деревьев прогуливаются люди. К сожалению, я не могу к ним присоединиться, ибо прикован к дому, не кандалами, но сознанием долга, каковое я мало-помалу в себе вырабатываю и каковым в конце концов обзаведусь. Я поступил на службу к даме, у которой больной сынишка, и должен за ним ухаживать, точно так же, как мать ухаживает за сыном, ведь его мать, моя хозяйка, следит за каждым моим движением, словно ее взгляд руководит моими поступками и словно она внушает мне собственную заботливость, когда я занимаюсь мальчуганом. Сейчас, когда я пишу к тебе, она сидит в кресле, поскольку это ее кабинет и я нахожусь здесь с ее разрешения. Обстоятельства теперь таковы, что всякий раз, когда мне надобно отлучиться по личному делу, я прежде должен спросить, можно ли, как мальчик-ученик спрашивает у мастера. Так или иначе, я хотя бы обращаюсь с просьбой к даме, что немного скрашивает ситуацию. Под службою подразумевается внимание к распоряжениям, угадывание желаний, умелое проворство и проворное умение в накрывании на стол и чистке ковров, надобно тебе знать, коли ты еще не знаешь. Я уже достиг известного совершенства в том, чтобы надраивать ботинки даме, которую просто зову хозяйкой. Дело это маленькое, незначительное, но тем не менее требующее стремления к совершенству, как и наиболее значительные дела. С маленьким хозяином я в хорошую погоду стану ходить на прогулку. Для этого припасена коричневая колясочка, в которой можно вывезти его на воздух, правда, если вдуматься, я не очень-то этому рад, ведь такие прогулки наверняка скучны. Но, Господи Боже мой, гулять придется. Хозяйка моя из тех женщин, у кого самая заметная и яркая черта — буржуазность. Она до мозга костей домохозяйка, однако ж в столь строгом и скромном смысле, что можно сказать: это вполне аристократично. Сердиться она умеет мастерски, я же мастерски даю ей к этому повод. Например, сегодня она ненароком разбила дорогую фарфоровую посудину и рассердилась на меня, оттого что разбил ее не я. Рассердилась за то, что я стал нежеланным свидетелем ее неловкости, и состроила такую мину, какую часто изображают на листовках. Типичное лицо с листовки. Я тихо-спокойно собрал черепки, чтобы позлить хозяйку, надо сказать, мне нравится ее злить. В злости она просто очаровательна. Красивой ее не назовешь, но такие строгие женщины, придя в ажитацию, распространяют огромное волшебство. Все добропорядочное прошлое подобных женщин трепещет в их волнениях, на которые смотришь с восторгом, ибо вызваны они весьма тонкими причинами. Во всяком случае, со мной обстоит именно так, эти женщины поневоле мне милы, ведь я одновременно восхищаюсь ими и сочувствую им. В речах и жестах они порой так высокомерны, что щеки, того гляди, лопнут, а рот поджимается в огорченнейшей насмешке. Мне по душе этакая насмешка, она приводит меня в трепет, а я люблю испытывать стыд и гнев: они побуждают к высокому, толкают к деяниям. Но моя насмешница-хозяйка все же просто-напросто добрая, мягкая женщина, я знаю, в том-то и все лукавство — что я знаю. Когда повинуюсь ее приказному тону, я поневоле смеюсь, вижу ведь, что ее радует, как охотно и быстро я повинуюсь. Когда же я о чем-нибудь ее прошу, она напускается на меня, однако просьбу не отклоняет, быть может слегка негодуя, что прошу я так, что отказать мне никак нельзя. Я все время немножко ее огорчаю и думаю: так и надо! Так и продолжай! Немножко огорчай ее. Ей это забавно. Она этого хочет. И не ждет иного! Женщины так легко предсказуемы, и все же в них очень много непредсказуемого. Странно, правда, братец? Во всяком случае, для мужчины они — самое поучительное на свете… Знала бы она, та, что сидит рядом, о чем я пишу! Одно из самых пылких моих желаний — поскорее получить от нее пощечину, но, к превеликому сожалению, я сомневаюсь, что она на это способна. Звонкая пощечина — я бы отдал за нее все поцелуи, на какие еще смею надеяться. Собственно говоря, пощечина связана с неприятным, зато чисто буржуазным ощущением: оно возвращает в детство, а разве мы не тоскуем частенько по давно минувшему? В моей хозяйке есть что-то отдаленное, при взгляде на это что-то думаешь о давным-давно минувшем, пожалуй, о времени еще более раннем, чем детство. Вероятно, однажды я поцелую ей руку, и она прогонит меня к шуту, выставит, так сказать, вон. Пусть я так сделаю, и пусть она меня выгонит. Велика важность… О, я тут вконец отупею, вот что я тебе скажу, я уже теперь замечаю. Мой дух занят складыванием салфеток и чисткой ножей, а хуже всего, что мне это нравится. Ты можешь себе представить большее поглупение! Как дела у тебя? Я три месяца провел в деревне, но мне кажется, будто это время уже далеко-далеко в прошлом. Я имею все перспективы сделаться человеком, который целиком и полностью посвящает себя нынешнему дню, не задумываясь более о его сродстве с нерешенными проблемами. Иногда даже о тебе думать лень, а это, по-моему, весьма серьезная вялость. Клару я надеюсь вскоре повидать. Возможно, ты уже забыл ее, а тогда мне незачем касаться этого предмета. И я не стану. Прощай, братец».
— Кому это вы писали? — спросила хозяйка, уставшая от чтения газеты, увидев, что Симон закончил письмо.
— Моему другу, он сейчас в Париже.
— Чем же он занимается?
— Сначала был переплетчиком, но, поскольку не преуспел в этом деле, стал официантом в ресторане. Я очень его люблю, мы вместе учились в школе, там-то я с ним и сошелся, ведь он еще мальчишкой был несчастлив. Однажды я увидел, как одноклассники насмехались над ним, а потом столкнули с каменной лестницы, в этот-то миг я и заглянул прямо в его красивые, испуганные, печальные глаза. С той поры я стал ему закадычным другом, и коли сострадание вправду соединяет, то я должен чувствовать соединенность с ним, без всяких размышлений, навеки! Он годом старше меня, однако на многие годы опередил меня в обычаях и образе жизни, ведь он всегда жил в столичных городах, где человек созревает быстрее. Раньше он просто бредил живописью и в бытность переплетчиком пробовал писать картины, но, к своему разочарованию, не преуспел и однажды стыдливо признался мне, что решил полностью устремиться в мирской круговорот, забыть свои мечтания об искусстве, и пошел в официанты. Какое падение и вместе какой удивительный взлет! Я ему сказал, что люблю его за это и восхищаюсь им, сказал, чтобы утешить, коль скоро в тихие, одинокие часы он впадет в горечь воспоминаний. Ясно, что, когда вокруг шумит жизнь, он часто тоскует о чем-то лучшем. Но видите ли, сударыня, он человек гордый и добрый. Слишком гордый, чтобы печалиться по напрасно растраченной жизни, и слишком добрый, чтобы совсем уж от нее откреститься. Я знаю каждое его ощущение. Как-то раз он написал мне, что, наверно, вскоре умрет от уныния и скуки. Так говорила его душа. А в другой раз написал так: «Глупые мечтания! Жизнь замечательна. Я пью абсент и полон блаженства!» Так говорила его мужская гордость. Надо вам знать: женщины его обожают, в нем есть что-то покоряющее сердца и вместе что-то холодное как лед. Весь его облик, невзирая на фрак официанта, дышит любовью и деликатностью.
— Каково же имя этого злополучного человека? — спросила хозяйка.
— Каспар Таннер.
— Как-как? Таннер? Но ведь и ваша фамилия — Таннер. Значит, он ваш брат, а вы сказали — друг.
— Конечно, он мой брат, но куда больше — друг! Такого брата должно называть другом, так правильнее. Мы братья лишь волею случая, а друзья — совершенно сознательно, и это куда важнее. Что есть братская любовь? Когда еще были братьями, мы однажды схватили друг друга за горло, едва не порешили один другого. Хороша любовь! Меж братьями зависть и ненависть в порядке вещей. Друзья, коли возненавидят один другого, расходятся, братья же, которым суждено жить под одною крышей, не могут так поступить, если меж ними возникла ненависть. Но это старая и некрасивая история.
— Отчего вы не кладете письмо в конверт?
— Я хотел просить вас ознакомиться с тем, что я написал.
— Нет, этого я делать не стану, — улыбнулась хозяйка.
— Я неподобающе говорил о вас в этом письме.
— Невелика беда, — сказала она, вставая. — Идите-ка спать.
Симон исполнил ее приказ, а уходя, подумал: «Я становлюсь все наглее. Скоро она меня выставит вон!»
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
По прошествии трех недель Симон, свободный от всех обязанностей, стоял в узком, крутом, жарком переулке, раздумывая, войти в дом или нет. Полуденное солнце припекало, выжимая из стен все дурные испарения. Царило безветрие. Да и откуда бы ветерку проникнуть в этот переулок. Поодаль, на современных улицах может гулять ветер, но сюда, кажется, уже много столетий не долетало ни дуновения. В кармане у Симона лежала небольшая сумма денег. Может, сесть на поезд и поехать в горы? Сейчас все едут в горы. Странные, чужие люди, мужчины и женщины, в одиночку, парами или группами шли по белым, ярким улицам. На дамских шляпах весело развевались вуальки, мужчины надели штаны до колен и желтые летние башмаки. Не стоит ли и Симону отправиться следом за этими чужаками в горы? Там, наверху, наверняка прохладно, а где-нибудь в горной гостинице для него определенно найдется работа. Ведь он может выступить в роли экскурсовода — и сил хватит, и ума достанет при случае сказать: «Обратите внимание, дамы и господа, на этот водопад, или на этот обвал, или на эту деревню, или на эту отвесную стену, на эту голубую, искрящуюся речку». Он вполне сумеет словами описать пейзаж путешествующим господам. А при необходимости сможет и взять на руки усталую, испуганную англичанку, коли понадобится перенести ее через расщелину в три фута шириной. Он очень даже не прочь. И вообще, американки да англичанки… он выучится говорить по-английски, в его представлении это премилый язык, шепелявый и придыхательный, резкий и одновременно мягкий.