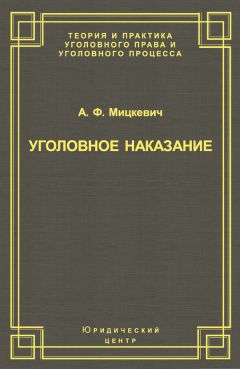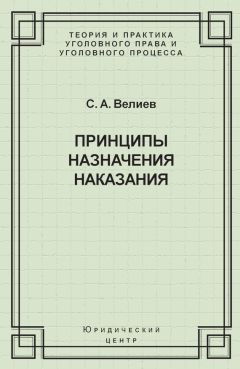Роберт Вальзер - Семейство Таннер
— Сейчас, в послеобеденное время, никаких дел у вас нет, и вы можете почитать вслух мне и моему мальчику. Вы умеете читать вслух?
Симон сказал, что умеет.
Потом он целый час читал вслух, слегка сдавленно, но правильно, отчетливо, красиво выговаривая слова, взволнованным голосом, каковой свидетельствовал, что чтец сопереживал тому, что читал. Даме как будто понравилось, а мальчик целиком обратился в слух и в конце очень мило поблагодарил за удовольствие. Щеки у Симона пылали от возбуждения, и ему было весьма приятно услышать благодарность. Засим, не получив покуда никаких распоряжений, он направился в людскую, озаренную багряным светом вечернего солнца, и закурил у открытого окна.
— Мне не по душе, что вы здесь курите, — сказала вошедшая хозяйка.
Он, однако, продолжал курить, и она ушла, несколько рассерженная. «Я, конечно, понимаю, что ей это неприятно, но все ли во мне должно быть ей приятно? Курить я не брошу. Нет! Нет, черт побери! Пусть сюда явятся хоть два десятка дам и все по очереди запретят мне курить». Он разозлился, хотя тотчас опять помягчел и сказал себе: «Надо было выбросить сигарету, я вел себя нагло!»
В этот миг, когда он хотел продолжить беседу с самим собою, в коридоре послышался вскрик и громкий хруст упавшей на пол посуды. Распахнув дверь, Симон увидел хозяйку, которая молча, с огорченным видом смотрела на пол, на черепки фарфорового блюдечка, явно дорогого ее сердцу. Она взяла из холодильного шкафа кусочек торта и хотела отнести его на блюдце к себе в комнату, да уронила, непонятно как. Вероятно, легкий обман чувств или еще какой пустяк — вот беда и случилась. Когда дама заметила Симона, стоявшего у нее за спиной, ее огорченное лицо тотчас приняло сердитое и укоризненное выражение, и она сказала Симону тоном, который вполне передавал, что она чувствует:
— Соберите все это!
Симон нагнулся, собрал черепки. А при этом ненароком коснулся щекой платья хозяйки и подумал: «Прости, что я оказался свидетелем твоей неловкости. Вполне понимаю твой гнев. И признаю, что разбил блюдце, которое ты уронила. Да, разбил его я. И тебе, наверно, очень жаль. Такое красивое блюдечко. Ты наверняка его любила. Я очень тебе сочувствую. Моя щека касается твоего платья. Каждый черепок, который я подбираю, говорит мне: “Бедняга”, а подол твоей юбки шепчет: “Счастливец!” Я подбираю черепки нарочно медленно. Ты опять рассердишься, коли невольно это заметишь? Мне доставляет удовольствие, что злодейство совершил я. Ты мне нравишься, когда злишься на меня. Знаешь, отчего мне нравится твоя злость? Оттого что она ласковая! Ты ведь злишься оттого, что я видел твою неловкость. Должно быть, ты питаешь ко мне некоторое уважение, раз можешь осерчать, попавши передо мною в неловкое положение. Ты, высокая, передо мною, низким. С какой восхитительной злостью ты велела мне собрать черепки. А я вовсе не спешу их собирать, ведь мне хочется, чтобы ты посильнее разозлилась и осерчала, что я этак копаюсь с черепками, которые поневоле говорят мне о твоей неловкости, да и тебе тоже. Ты все еще здесь? Сейчас тебя, наверно, обуревают смешанные чувства: стыд, боль, гнев, злость, безразличие, досада, спокойствие, удивление и высокомерность, а еще масса мелких, безымянных ощущений, которые длятся не дольше секунды и которые не успеваешь толком прочувствовать, словно легкий укол, мимолетный аромат или взмах ресниц… Твое шелковое платье прекрасно, если подумать, что оно облекает женское тело, способное трепетать от волнения и от слабости. У тебя красивые руки, опущенные сейчас вниз, ко мне. Надеюсь, когда-нибудь они влепят мне пощечину. Ты уже уходишь, не выбранив меня. При каждом шаге твое платье, касаясь пола, хихикает и шепчет. Давеча ты запретила мне курить. Но я буду дерзко курить, шагая за тобой на рынок за покупками. Ты увидишь, как я курю ослепительно белые сигареты, и надеюсь, тогда тебе достанет присутствия духа выхватывать их у меня изо рта. Вот только что мне пришлось всеми способами, что имеются в моем распоряжении, просить у тебя прощения за то, что ты разбила блюдечко. Ах, если бы мне подвернулась оказия натворить что-нибудь такое, что бы заставило тебя послать меня к черту. О нет, нет! Что это я надумал. С ума сошел. Поистине история с черепками лишила меня рассудка. На улице теперь свечерело. Фонари озаряют светло-желтым светом угасающий день. Мне хочется на улицу. Да, надо непременно выйти на улицу…»
— Я бы хотел немножко прогуляться, — сказал он, входя к ней в комнату, — можно?
— Да! Только недолго!
Симон устремился вниз по лестнице, где какая-то женщина под вуалью проводила его удивленным взглядом, выбежал из дома, на улицу, на воздух, в подвижную, влажную, сверкающую, вечернюю свободу. «Как странно, — думал он, — быть привязанным к дому, где живешь ровно пленник. Странно, ты взрослый человек, а должен идти к даме, в темную комнату, где эту даму впотьмах едва видно, и просить позволения выйти на улицу. Будто ты ее мебель, предмет, покупная вещица, пустяк, будто пустяк этот вовсе ничего не значит или что-то значит только потому, что годится быть ее пустяком, ее вещицей! И опять же странно, что тем не менее чувствуешь себя уютно, как в родном доме. Собственно, ступаешь по улице вдесятеро торжественнее, потому что тот, у кого пришлось спрашивать позволения, разрешил. Просить разрешения — в этом есть что-то школярское, однако ж, — думал он, — даже старики нередко, причем в более унизительных обстоятельствах, вынуждены спрашивать разрешения. Все в жизни так чудесно, а с чудесным надобно мириться, пусть даже оно зачастую выглядит странно».
Он шел по улице и влюбился в прелестный ее облик, со звездами, восходящими на небосводе, с густыми деревьями, высаженными длинной прямой вереницей, со спокойно шагающими людьми, с роскошью вечера, с глубоким, трепетным предчувствием ночи. Он и сам шел спокойно, почти мечтательно. Вечером не стыдно принять мечтательный вид, ведь всяк поневоле впадал в мечты в этой атмосфере, полной вечерних ароматов начала лета. Вокруг прогуливалось множество женщин, в перчатках, с элегантными ридикюлями в руках, с глазами, в которых сиял вечерний свет, в узких платьях английского покроя или в сборчатых, волочащихся по земле юбках и вечерних нарядах, так свободно двигавшихся по улице. «Женщина, — думал Симон, — как она украшает облик городской улицы. Она просто создана, чтобы прогуливаться. Так и чувствуешь: она прогуливается, наслаждается своей упругой, красивой походкой. Вечером тон задают именно женщины, для этого весьма подходят их фигуры, их плечи, полные и меланхоличные, их груди, вздымающиеся и опадающие. Их руки в перчатках вроде как дети в масках, они машут ими, всегда что-то в них сжимают. Вся их стать обращает вечерний мир в звуки музыки. Если сейчас, вот как я, идешь следом за ними, то уже им принадлежишь, в мыслях, в чутких колебаниях, в приливных волнах, бьющихся в сердце. Они не делают тебе знаков, а все же делают. У них нет вееров, а все же видишь у них в руке веер, он взблескивает и слепит глаза, словно литое серебро, в смутном, расплывчатом вечернем свете. Зрелые, дородные женщины особенно под стать вечеру, как старухи под стать зиме, а цветущие девушки — едва пробудившемуся дню, как дети — брезжущему утру, а молодые женщины — жаркому полудню, когда солнце шлет миру самые горячие лучи».
Домой Симон воротился в девять часов. Он запоздал и должен был выслушать упреки вроде: если такое случится еще раз, один-единственный раз, то… Он толком не слышал слов, воспринимал лишь укоризненный тон, в душе смеялся, а с виду казался огорченным, то есть состроил простецкую мину и счел за благо не открывать рот и не оправдываться. Раздел мальчика, уложил в постель, зажег ночник.
— Нельзя ли мне попросить свечу для себя? — спросил он у дамы.
— Зачем вам свеча?
— Написать письмо.
— Приходите ко мне в кабинет, там и напишете! — сказала дама.
Ему было позволено сесть за ее письменный стол. Она дала ему бумагу, конверт для адреса, марку, перо и разрешила воспользоваться своим бюваром. Сама села рядом, в кресло, и читала газету, меж тем как он писал:
«Дорогой Каспар! Я снова в знакомом тебе городе, сижу за красивым столом темного дерева, в ярко освещенной комнате, а внизу, на улице, в летней ночи, под пышными кронами деревьев прогуливаются люди. К сожалению, я не могу к ним присоединиться, ибо прикован к дому, не кандалами, но сознанием долга, каковое я мало-помалу в себе вырабатываю и каковым в конце концов обзаведусь. Я поступил на службу к даме, у которой больной сынишка, и должен за ним ухаживать, точно так же, как мать ухаживает за сыном, ведь его мать, моя хозяйка, следит за каждым моим движением, словно ее взгляд руководит моими поступками и словно она внушает мне собственную заботливость, когда я занимаюсь мальчуганом. Сейчас, когда я пишу к тебе, она сидит в кресле, поскольку это ее кабинет и я нахожусь здесь с ее разрешения. Обстоятельства теперь таковы, что всякий раз, когда мне надобно отлучиться по личному делу, я прежде должен спросить, можно ли, как мальчик-ученик спрашивает у мастера. Так или иначе, я хотя бы обращаюсь с просьбой к даме, что немного скрашивает ситуацию. Под службою подразумевается внимание к распоряжениям, угадывание желаний, умелое проворство и проворное умение в накрывании на стол и чистке ковров, надобно тебе знать, коли ты еще не знаешь. Я уже достиг известного совершенства в том, чтобы надраивать ботинки даме, которую просто зову хозяйкой. Дело это маленькое, незначительное, но тем не менее требующее стремления к совершенству, как и наиболее значительные дела. С маленьким хозяином я в хорошую погоду стану ходить на прогулку. Для этого припасена коричневая колясочка, в которой можно вывезти его на воздух, правда, если вдуматься, я не очень-то этому рад, ведь такие прогулки наверняка скучны. Но, Господи Боже мой, гулять придется. Хозяйка моя из тех женщин, у кого самая заметная и яркая черта — буржуазность. Она до мозга костей домохозяйка, однако ж в столь строгом и скромном смысле, что можно сказать: это вполне аристократично. Сердиться она умеет мастерски, я же мастерски даю ей к этому повод. Например, сегодня она ненароком разбила дорогую фарфоровую посудину и рассердилась на меня, оттого что разбил ее не я. Рассердилась за то, что я стал нежеланным свидетелем ее неловкости, и состроила такую мину, какую часто изображают на листовках. Типичное лицо с листовки. Я тихо-спокойно собрал черепки, чтобы позлить хозяйку, надо сказать, мне нравится ее злить. В злости она просто очаровательна. Красивой ее не назовешь, но такие строгие женщины, придя в ажитацию, распространяют огромное волшебство. Все добропорядочное прошлое подобных женщин трепещет в их волнениях, на которые смотришь с восторгом, ибо вызваны они весьма тонкими причинами. Во всяком случае, со мной обстоит именно так, эти женщины поневоле мне милы, ведь я одновременно восхищаюсь ими и сочувствую им. В речах и жестах они порой так высокомерны, что щеки, того гляди, лопнут, а рот поджимается в огорченнейшей насмешке. Мне по душе этакая насмешка, она приводит меня в трепет, а я люблю испытывать стыд и гнев: они побуждают к высокому, толкают к деяниям. Но моя насмешница-хозяйка все же просто-напросто добрая, мягкая женщина, я знаю, в том-то и все лукавство — что я знаю. Когда повинуюсь ее приказному тону, я поневоле смеюсь, вижу ведь, что ее радует, как охотно и быстро я повинуюсь. Когда же я о чем-нибудь ее прошу, она напускается на меня, однако просьбу не отклоняет, быть может слегка негодуя, что прошу я так, что отказать мне никак нельзя. Я все время немножко ее огорчаю и думаю: так и надо! Так и продолжай! Немножко огорчай ее. Ей это забавно. Она этого хочет. И не ждет иного! Женщины так легко предсказуемы, и все же в них очень много непредсказуемого. Странно, правда, братец? Во всяком случае, для мужчины они — самое поучительное на свете… Знала бы она, та, что сидит рядом, о чем я пишу! Одно из самых пылких моих желаний — поскорее получить от нее пощечину, но, к превеликому сожалению, я сомневаюсь, что она на это способна. Звонкая пощечина — я бы отдал за нее все поцелуи, на какие еще смею надеяться. Собственно говоря, пощечина связана с неприятным, зато чисто буржуазным ощущением: оно возвращает в детство, а разве мы не тоскуем частенько по давно минувшему? В моей хозяйке есть что-то отдаленное, при взгляде на это что-то думаешь о давным-давно минувшем, пожалуй, о времени еще более раннем, чем детство. Вероятно, однажды я поцелую ей руку, и она прогонит меня к шуту, выставит, так сказать, вон. Пусть я так сделаю, и пусть она меня выгонит. Велика важность… О, я тут вконец отупею, вот что я тебе скажу, я уже теперь замечаю. Мой дух занят складыванием салфеток и чисткой ножей, а хуже всего, что мне это нравится. Ты можешь себе представить большее поглупение! Как дела у тебя? Я три месяца провел в деревне, но мне кажется, будто это время уже далеко-далеко в прошлом. Я имею все перспективы сделаться человеком, который целиком и полностью посвящает себя нынешнему дню, не задумываясь более о его сродстве с нерешенными проблемами. Иногда даже о тебе думать лень, а это, по-моему, весьма серьезная вялость. Клару я надеюсь вскоре повидать. Возможно, ты уже забыл ее, а тогда мне незачем касаться этого предмета. И я не стану. Прощай, братец».