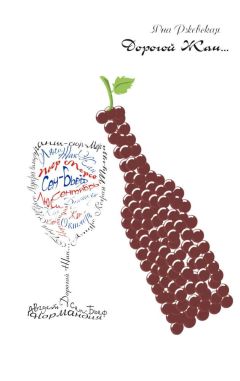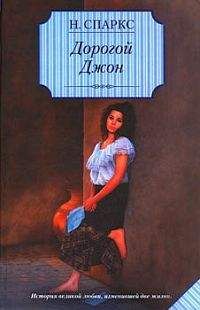Джон Голсуорси - Девушка ждёт
– Какая страшная подлость!
– Да, – сказала Джин. – С минуты на минуту придет Хьюберт, и мне надо поговорить с ним наедине.
– Тогда отведи его наверх, в кабинет Майкла. Я пойду к Майклу и все ему расскажу. Об этом надо сказать в парламенте… Да, но он распущен сейчас на каникулы, – вспомнила Динни. – Он, кажется, заседает только тогда, когда это никому не нужно.
Джин дождалась Хьюберта в холле. Они поднялись в кабинет, где на стенах были развешаны афоризмы трех последних поколений; Джин усадила Хьюберта в самое. удобное кресло, а сама устроилась у него на коленях.
Так она просидела несколько минут, обняв его за шею и прижавшись к нему лицом.
– Ну, хватит, – сказала она затем, поднимаясь и закуривая. – Ничего у них из этой затеи не выйдет.
– А если выйдет?
– Нет. А если да, – тем скорее мы должны обвенчаться.
– Девочка моя, я не могу.
– Ты должен. И не думай, пожалуйста, что если тебя выдадут – а этого, конечно, не будет, – я не поеду с тобой. Поеду, и тем же пароходом, – все равно, обвенчаемся мы или нет.
Хьюберт смотрел на нее с восхищением.
– Ты просто чудо, – сказал он, – но…
– Ну да, я знаю, что ты скажешь. Знаю я и твои рыцарские чувства, и что ты хочешь сделать меня несчастной для моего собственного блага, и что подумает отец… и так далее, и тому подобное. Я была у твоего дяди Хилери. Он согласен нас обвенчать, а он – священник и человек с большим жизненным опытом. Давай расскажем ему, что произошло, и, если после этого он не откажется от своего обещания, мы обвенчаемся. Пойдем к нему завтра же утром вместе.
– Но…
– Никаких «но»! Ему ты можешь верить: по-моему, он настоящий человек.
– Верно, – сказал Хьюберт, – он человек, каких мало.
– Вот и хорошо; значит, договорились. Теперь можешь опять меня поцеловать.
Джин снова заняла свое место у него на коленях, и, если бы не ее тонкий слух, Динни застала бы их в такой позе, но когда Динни открыла дверь, Джин уже разглядывала «Белую обезьяну» на стене, а Хьюберт вынимал портсигар.
– Какая замечательная обезьяна, – сказала Джин. – Мы поженимся, Динни, несмотря на всю эту ерунду, если только ваш дядя Хилери не передумает. Хочешь, поедем к нему с нами завтра утром?
Динни взглянула на брата; Хьюберт поднялся с кресла.
– Безнадежно, – сказал он. – Ничего не могу с ней поделать.
– А без нее и подавно. Ты только подумай, Динни! Он воображает, что, если дело будет плохо и его вышлют, я с ним не поеду! Мужчины просто младенцы! А ты что скажешь?
– Я рада за вас.
– Не забудь, Джин, – сказал Хьюберт, – все зависит от дяди Хилери.
– Да. Он человек практичный, и, как он скажет, так и будет. Зайди за нами завтра в десять. Отвернись, Динни. Я его разок поцелую, а потом ему пора идти.
Динни отвернулась.
– Пошли, – сказала Джин.
Они спустились вниз, и вскоре девушки отправились спать. Комнаты их были рядом и обставлены с присущим Флер вкусом. Они немного поболтали, поцеловались и разошлись.
Динни раздевалась не спеша. В окнах домов, выходивших на тихую площадь, где жили большей частью члены парламента, разъехавшиеся сейчас на каникулы, светилось мало огней; ни малейшее дуновение ветерка не шевелило темные ветви деревьев; воздух, струившийся в открытое окно, был так не похож на душистый воздух деревенской ночи, а глухой гул города не давал Динни успокоиться после всех треволнений этого долгого дня.
«Я бы не могла жить с Джин, – думала она и тут же добавила, справедливости ради, – но Хьюберт сможет. Ему именно это и нужно». И она невесело улыбнулась, почувствовав обиду. Да, ее вытеснили из сердца брата. Она легла в постель, но долго не могла заснуть, думая о страхах и отчаянии Адриана, о Диане и этом бедняге, ее муже, который тоскует по ней, отстранен от нее, отлучен от всех на свете. В темноте она видела его горящие, беспокойные глаза, глаза человека, томящегося по дому и покою, лишенного и того и другого. Она натянула на голову одеяло и, чтобы поскорее уснуть, снова и снова твердила детский стишок:
До чего же ты упряма, Мери,
Как твой садик у тебя цветет.
Новые игрушки, белые ракушки,
Милая девчушка рядышком растет.
Глава девятнадцатая
Если бы вы заглянули в душу Хилери Черрела, священника прихода святого Августина-в-Лугах, и проникли в ее тайники, скрытые под покровом его речей и поступков, вы бы обнаружили, что он далеко не убежден, будто его благочестивая деятельность приносит кому-нибудь пользу. Но привычка «служить» вошла в его плоть и кровь, – как служат все те, кто ведет и направляет других людей. Возьмите на прогулку молодого сеттера, даже необученного, – и он сразу станет искать след; а далматский дог с первого же дня побежит рядом с лошадью. Так и Хилери – потомок тех, кто целыми поколениями командовал в армии и на флоте, – впитал с молоком матери потребность целиком отдаваться своему делу, вести, управлять и помогать окружающим, отнюдь не чувствуя уверенности, что делает что-то значительное, а не просто коптит небо. В наш век, когда люди ни во что не верят и не могут удержаться от насмешек над сословиями и традициями, он принадлежал к некоему «ордену» – его рыцари выполняют свою миссию не для того, чтобы кого-то облагодетельствовать или стяжать выгоду, а потому, что бросить дело для них равносильно дезертирству. Хилери и в голову не приходило оправдывать свой «орден» или размышлять о ярме, которое несли, каждый по-своему, его отец-дипломат, его дядя-епископ, его братья – солдат, хранитель музея и судья (Лайонела только что назначили на этот пост). «Мы просто тянем каждый свою лямку», – думал он о них и о себе самом. К тому же то, что он делал, давало ему какие-то преимущества, – он даже мог бы их перечислить, хоть в душе и считал, что они ничего не стоят.
Наутро после возвращения Ферза Хилери уже успел просмотреть свою обширную корреспонденцию, когда в его более чем скромный кабинет вошел Адриан. Из всех многочисленных друзей и близких Адриана один Хилери по-настоящему понимал состояние брата и сочувствовал ему. Между ними было всего два года разницы, в детстве они росли закадычными друзьями; оба были альпинистами и привыкли в предвоенные годы вместе брать опасные подъемы и еще более опасные спуски; оба побывали на войне: Хилери – полковым священником во Франции, Адриан, владевший арабским языком, – офицером связи на Востоке; к тому же характеры у них были совершенно несхожие, что всегда укрепляет дружбу. Им незачем было изливать друг другу душу, и они сразу же перешли к обсуждению практической стороны дела.
– Что нового сегодня? – спросил Хилери.
– Динни говорит, все как будто спокойно. Но он живет с ней под одной крышей и рано или поздно потеряет самообладание. Пока ему достаточно сознавать, что он дома и на свободе, но это вряд ли протянется больше недели. Я сейчас поеду в клинику, но они, должно быть, знают не больше нашего.
– Прости меня, старина, но полезнее всего ему была бы нормальная жизнь с ней.
Лицо Адриана передернулось.
– Это свыше человеческих сил, Хилери. Самая мысль о близости с ним чудовищна. На это не пойдет ни одна женщина.
– Если только бедняга не останется в здравом уме.
– Решать тут не тебе, и не мне, и не ему, – решать может только она; нельзя требовать от нее невыполнимого. Не забудь, сколько ей пришлось перенести, пока его не поместили в клинику. Его нужно убрать из дома.
– Куда проще поискать другое пристанище для нее.
– Кто его даст, кроме меня, а это сразу же опять сведет его с ума.
– Если она готова мириться с неудобствами, мы можем ее устроить у себя, – сказал Хилери.
– А дети?
– Мы могли бы потесниться. Но одиночество и безделье не помогут ему сохранить здоровую психику. А работать он может?
– Не думаю. Четыре года в сумасшедшем доме доконают кого угодно. Да и кто даст ему работу? Эх, если б я мог убедить его переехать ко мне!
– Динни и та другая девушка сказали, что он выглядит и говорит вполне нормально.
– Да, внешне это так. Может быть, в клинике что-нибудь посоветуют.
Хилери взял брата под руку.
– Как это ужасно для тебя, старина! Но держу пари, – все обойдется. Я поговорю с Мэй; поезжай в клинику, посоветуйся там, и если ты потом решишь, что Диане лучше переселиться к нам, предложи ей это.
Адриан прижал к себе руку брата.
– Мне пора ехать.
Оставшись один, Хилери задумался. На своем веку он не раз видел, что пути провидения неисповедимы, и даже в своих проповедях перестал называть его милосердным. Однако он знавал немало людей, которые упорством победили свои напасти, и немало других, кого несчастья все-таки одолели, но потом и те и другие сумели извлечь из этого даже выгоду и жили припеваючи, – вот почему он был убежден, что беды всегда преувеличивают, а потери можно наверстать. Главное – не унывать и не опускать рук. Тут к нему пришла посетительница – девушка Миллисент Поул. Хоть суд ее и оправдал, фирма «Петтер и Поплин» выгнала ее с работы: о девушке пошла дурная слава, а этого оправданием в суде не сотрешь.