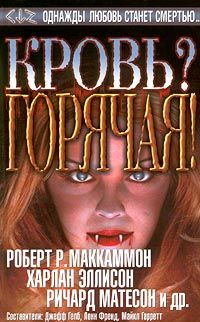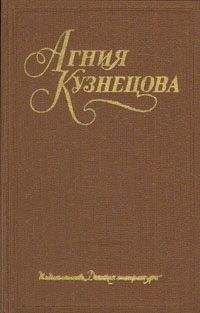Ганна Кралль - Опередить Господа Бога
Речь шла лишь о выборе способа: как умереть.
Этим интервью, переведенным на разные иностранные языки, многие были возмущены до глубины души, и некий литератор, мистер С., написал Эдельману из Штатов, что вынужден был за него заступиться. Три большие статьи опубликовал, чтобы умерить страсти, а название придумал такое: "Исповедь последнего вождя варшавского гетто".
Люди стали писать письма в газеты - на французском, английском, еврейском и других европейских языках, - мол, зачем он все так принизил, но больше всего их задели рыбы. Те самые, которым Анелевич красил в красный цвет жабры, чтобы матери легче было продать на Сольце вчерашний товар.
Анелевич - сын торговки, подкрашивающий рыбам жабры, только этого не хватало. Так что задача у американского литератора была не из легких, а тут еще и один немец из Штутгарта прислал Эдельману трогательное письмо.
"Sehr geehrter Herr Doctor 2, - писал немец - во время войны, он, будучи солдатом вермахта, нес службу в варшавском гетто, - я видел там на улицах трупы людей, множество трупов, прикрытых бумагой, я помню, это было ужасно, мы оба жертвы ужасной войны, не могли бы вы мне черкнуть несколько слов?"
1 Сокращение от "Їydowska Organizacja Bojowa" ("Еврейская боевая организация") - созданная в 1942 г. в гетто военная подпольная организация, возглавлявшаяся Мордехаем Анелевичем.
2 Многоуважаемый господин доктор (нем. ).
Разумеется, герр доктор ответил, что ему очень приятно и что он отлично понимает чувства молодого немецкого солдата, который впервые увидел прикрытые бумагой трупы.
История с литератором, мистером С., сразу ему напомнила о поездке в США в шестьдесят третьем году. Его привезли на встречу с руководителями профсоюзов. Он помнит: стоит стол, за столом человек двадцать, одни мужчины. Сосредоточенные, взволнованные лица - главы профессиональных союзов, которые во время войны давали деньги на оружие для гетто.
Председательствующий приветствует его, и начинается дискуссия. О памяти. Что такое человеческая память, и нужно ли ставить памятники или лучше строить дома - эдакие литературные дилеммы. Так что он очень старательно за собой следил, чтобы не ляпнуть чего-нибудь неподходящего, чего-нибудь вроде: "А какое это сейчас имеет значение?" Он не имел права так их огорчать. "Осторожно, - повторял он себе, - придержи язык, у них уже на глазах слезы. Они давали деньги на оружие и ходили к президенту Рузвельту, спрашивали, правда ли все, что рассказывают про гетто, так что уж, пожалуйста, будь великодушен".
(Это было, вероятно, после одного из первых донесений "Вацлава", Тося Голиборская тогда только-только выкупила его из гестапо за свой персидский ковер; донесение в виде микрофильма курьер провез в зубе под пломбой, и через Лондон оно попало в США, но им там трудно было поверить в эти тысячи перетопленных на мыло и тысячи сгоняемых на Умшлагплац, поэтому они отправились к своему президенту спросить, можно ли серьезно относиться к подобным вещам. )
Ну и он был великодушен, позволял им умиляться и рассуждать о памяти, а теперь вдруг так больно всех задел: "Разве это можно назвать восстанием?"
Возвращаясь к рыбам. Во французском переводе, в еженедельнике "Экспресс", рыбы звучали как du poisson и мать Анелевича, еврейская торговка с Сольца, покупала un petit pot de peinture rouge 1. Ну разве такое можно воспринимать всерьез? Разве Анелевич, подкрашивающий peinture rouge жабры (les ouпes), - тот самый Анелевич?
1 Маленькую баночку красной краски
Это напоминает попытку рассказать английским родственникам о бабушке. умиравшей от голода во время варшавского восстания. Перед самой смертью набожная старушка просила что-нибудь поесть, ладно уж, пускай не кошерное, говорила она, пусть будет свиная отбивная.
Но весь разговор с английскими родственниками шел по-английски, так что бабушка попросила не отбивную, a pork-chop и, к счастью, сразу перестала быть той умирающей бабушкой. К счастью - потому что теперь уже можно было говорить о ней без надрыва, спокойно, как принято в культурном английском доме рассказывать за обедом разные занятные истории.
А люди, которые пишут письма, настаивают, что настоящий был все-таки тот Анелевич, с peinture rouge. Что-то в этом, видимо, есть, раз столько людей настаивают. И пишут, что нельзя рассказывать такие вещи о руководителе восстания.
- Слушай, - говорит он, - придется нам теперь быть начеку. И тщательно подбирать слова.
Ну что ж.
Будем тщательно подбирать слова и постараемся ничем никого не задеть.
В один прекрасный день раздается звонок. У телефона американский литератор, мистер С. Он в Варшаве. Виделся с Антеком и Целиной, но об этом - при мной встрече.
Ну - это уже дело серьезное. Можно не обращать внимания на то, что говорят все на свете, но мнением двух людей пренебречь нельзя, и люди эти как раз Целина и Антек. Заместитель Анелевича, представитель ЖОБа на арийской стороне, который вышел из гетто перед самым началом восстания, и Целина, которая была с ними в гетто все время, с первого дня, и вместе с ними ушла каналами.
До сих пор Антек молчал. А тут приезжает мистер С. и говорит, что видел его неделю назад.
У меня складывается впечатление, что Эдельман немного волнуется перед этой встречей. Как оказалось - напрасно. Антек - сообщил мистер С. заверяет его в своих дружеских чувствах и уважении и в целом, за исключением некоторых деталей, интервью одобряет.
"За исключением каких деталей?" - спрашиваю я у мистера С.
Антек, например, сказал, что вовсе не вести человек участвовало в восстании. Их было больше - пятьсот, даже шестьсот.
- Антек утверждает, что вас было шестьсот. Может быть, исправим это число?
- Нет, - говорит Эдельман. - Нас было двести двадцать.
- Но Антеку хочется, мистеру С. хочется, всем очень хочется, чтобы вас было хоть немножко больше... Исправим?
- Да это же не имеет значения, - говорит Эдельман со злостью. Неужели вы все и вправду не можете понять, что это уже не имеет значения!
Ага, и еще кое-что. Ну конечно, еще история с рыбами.
Не Анелевич их подкрашивал, а его мать. "Запишите это себе, - говорит мне мистер С., литератор, - это очень важно".
Возвращаюсь к тому, что нужно тщательно подбирать слова. Через три дня после выхода из гетто Целеменский отвел его к представителям политических партий, которые хотели выслушать отчет о восстании. Он был единственным оставшимся в живых членом штаба и заместителем Анелевича - пришлось докладывать. "За эти двадцать дней - говорил он, - можно было убить больше немцев и спасти больше своих. Но, - говорил он, - мы не были толком обучены и не знали правил ведения боя. Кроме того, - говорил он, - немцы тоже умели хорошо драться".
А те переглядывались, не произнося ни слова, и наконец один из них сказал: "Надо его понять, это ж не нормальный человек. Это развалина".
Оказывается, он говорил не так, как следовало бы говорить.
"А как следует говорить?" - спросил он.
Говорить следует с ненавистью, с пафосом, переходя на крик, - нет иного способа выразить все это, кроме как криком.
Так что он с самого начала не годился в рассказчики, потому что не умел кричать. И в герои тоже не годился, потому что ему был чужд пафос.
Вот уж поистине невезение.
Единственный, который уцелел, не годился в герои.
Поняв это, он тактично замолчал. И молчал довольно долго, тридцать лет, а когда наконец заговорил, сразу стало ясно, что для всех было бы лучше, если б он продолжал молчать.
На встречу с представителями партий он ехал на трамвае, впервые после выхода из гетто ехал на трамвае, и тогда с ним произошла страшная вещь. Ему безумно захотелось не иметь лица. И не потому, что кто-то мог бы обратить на него внимание и выдать, нет, он просто почувствовал, что у него отталкивающее, черное лицо. Лицо с плаката "ЕВРЕИ - ВШИ - СЫПНОЙ ТИФ". А у всех, кто стоит вокруг, светлые лица. Вокруг красивые, спокойные люди; они могут быть спокойны, потому что исполнены сознания своей светлой красоты.
Он сошел с трамвая на Жолибоже, возле небольших домишек, улица была пуста, только одна старушка поливала в садике цветы. Она поглядела на него из-за проволочной ограды, а он старался идти так, будто его почти нет, старался занимать как можно меньше места в этом залитом солнцем пространстве.
Сегодня по телевизору показывали Кристину Крахельскую. У нее тоже были светлые волосы. Она позировала Нитшовой 1 для памятника Сирены, писала стихи, пела думки и погибла среди подсолнечников во время варшавского восстания.
1 Нитшова Людвика - известный скульптор, автор, в частности, памятника Варшавской Сирены, стоящего над Вислой; Сирена с мечом в одной и щитом в другой руке - герб Варшавы.
Какая-то женщина рассказывала о ней: Кристина бежала садами, но была такая высокая, что не могла, даже пригнувшись, укрыться за этими подсолнечниками.
Итак, значит, теплый августовский день. Она сколола на затылке свои длинные светлые волосы. Написала: "Эй, ребята, к оружью штыки", перевязала раненого, а теперь бежит, освещенная солнцем.