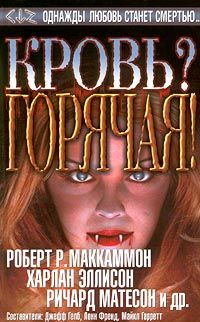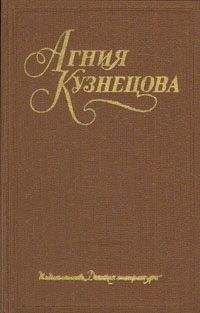Ганна Кралль - Опередить Господа Бога
- Я думаю, один сожженный парень производит большее впечатление, чем четыреста тысяч, а четыреста тысяч - большее, чем шесть миллионов. Итак, вы не знали толком, в чем дело...
- Анелевич думал, подойдет подкрепление, а мы ему втолковывали: "Брось, там все простреливается, нам не прорваться".
Знаешь что?
Я считаю, в глубине души он верил в победу.
Конечно, никогда раньше он об этом не говорил. Наоборот. "Мы идем на смерть, - кричал, - другого пути нет погибнем с честью, ради истории... " в таких случаях ведь всегда говорят что-то ч этом роде. Но сейчас мне кажется, что он все время сохранял какую-то ребяческую надежду.
У него была девушка. Красивая такая, светлая, теплая. Мирой ее звали.
Седьмого мая он был с ней у нас, на Францисканской.
Восьмого мая, на Милой, он застрелил сперва ее, потом себя. Юрек Вильнер крикнул: "Погибнем вместе", Лютек Ротблат застрелил свою мать и сестру, потом уже все стали стрелять; когда мы туда продрались, живых оставалось всего несколько человек, восемьдесят покончили с собой. "Именно так и должно было случиться, - сказали нам потом. - Погиб народ, погибли его бойцы. Смерть - символ". Тебе небось тоже нравятся такие символы?
Была там с ними девушка. Рут. Она семь раз стреляла в себя, пока не попала. Очень красивая крупная девушка с персиковой кожей, но извела зазря шесть патронов.
На этом месте теперь сквер. Могилы ный холмик, камень, надпись. В хорошую погоду приходят матери с детьми или, вечером, парочки - на самом деле эта братская могила - тоже символическая, костей мы так и не собрали.
- У тебя было сорок бойцов. Вам ни разу не пришло в голову сделать то же самое?
- Ни разу. Напрасно они так поступили. Хотя это и прекрасный символ Но ради символов не стоит жертвовать жизнью. Тут у меня сомнений не было. Во всяком случае - в течение всех двадцати дней. Я мог сам съездить по морде, если кто-нибудь из моих впадал в истерику. Вообще я тогда многое мог. Потерять пять человек в схватке и не испытывать угрызений совести. Лечь спать, когда немцы долбили отверстия в стене, чтобы нас подорвать, - я просто знал, что пока нам делать нечего. А вот когда они в двенадцать пошли обедать - тут мы быстро сделали все, что было нужно, чтоб прорваться. (Я не волновался - наверно, потому, что, собственно, ничего не могло случиться. Ни чего страшнее смерти, ведь о жизни вопрос никогда не стоял, всегда только смерти. Возможно, никакой трагедии вовсе и не было. Трагедия - это когда ты волен принять какое-нибудь решение когда что-то от тебя зависит, а там все было предрешено заранее. Сейчас, в больнице, на карту ставится жизнь - и всякий раз я должен принимать решение. Сейчас я волнуюсь гораздо больше.)
И еще я кое-что мог. Мог сказать парню, который попросил у меня адрес на арийской стороне: "Еще не время. Еще рано". Сташеком его звали... "Марек, - говорил он, - ведь ТАМ есть место, куда можно пойти... " Неужели надо было ему сказать, что такого места нет? Вот я и сказал: "Еще рано... "
- Из-за стены видно было что-нибудь на арийской стороне?
- Да. Стена доходила только до второго этажа. Уже с третьего видна была ТА улица. Мы видели карусель, людей, слышали музыку и ужасно боялись, что эта музыка заглушит нас и эти люди ничего не заметят, что вообще никто на свете не заметит - нас, борьбы, погибших... Что стена такая огромная - и ничего, никакие вести о нас никогда не просочатся наружу.
Но из Лондона передали, что Сикорский 1 наградил посмертно орденом Виртути Милитари 2 Михала Клепфиша. Того парня, который на нашем чердаке заслонил собой немецкий пулемет, чтобы мы могли прорваться. Инженер, двадцати с чем-то лет. Про таких говорят: на редкость удачный мальчик.
1 Сикорский Владислав (1881 -1943) - премьер-министр польского эмигрантского правительства в 1939-1943 гг., генерал.
2 Орден за выдающиеся боевые заслуги, за отвагу, проявленную на поле боя; существует пять классов Виртути Милитари.
Благодаря ему мы отбили атаку - сразу после этого и пришли те трое с белым бантом. Парламентеры. Я стоял здесь. Вот тут, на этом месте, только ворота тогда были деревянные.
А бетонный столбик тот же, и барак, и, наверно, даже тополя те. Погоди, а почему, собственно, я всегда стоял с этой стороны? Ага, потому что с той стороны шла толпа. Вероятно, я боялся, как бы меня не прихватили.
Я был тогда рассыльным в больнице, и в этом заключалась моя работа: стоять у ворот на Умшлагплаце и выводить больных. Наши люди выискивали тех, кого нужно было спасти, а я их выводил под видом больных.
Я был беспощаден. Одна женщина умоляла, чтобы я вывел ее четырнадцатилетнюю дочь, но я мог взять только одного человека и взял Зосю, которая была нашей лучшей связной. Четыре раза ее выводил, и всякий раз ее хватали снова.
Как-то мимо меня гнали людей, у которых не было талонов на жизнь. Немцы раздали такие талоны, и тем, кто их получил, было обещано, что они останутся живы. Во всем гетто у людей тогда была одна-единственная цель: раздобыть талон. Но потом пришли и за теми, с талонами.
А еще объявили, что право на жизнь дается работникам фабрик - там нужны были швейные машинки, людям казалось, что швейные машинки спасут им жизнь, и за них платили любые деньги. Но потом пришли и за теми, с машинками.
Наконец, было объявлено, что дают хлеб. Всем, кто выразит желание ехать на работы, по три килограмма хлеба и мармелад. Послушай, детка. Ты знаешь, чем тогда в гетто был хлеб? Если не знаешь, то никогда не поймешь, почему тысячи людей могли добровольно явиться и с хлебом поехать в Треблинку. Никто до сих пор этого понять не мог.
Здесь его раздавали, на этом месте. Продолговатые румяные буханки ситного.
И знаешь что?
Люди шли организованно, четверками - шли за этим хлебом, а потом в вагон. Желающих было столько, что выстраивались очереди, в Треблинку приходилось отправлять уже по два эшелона в день - и то все добровольцы не помещались.
Ну, а мы - мы, конечно, знали.
В сорок втором году мы послали одного нашего товарища, Зигмунта, разузнать, что происходит с эшелонами. Он поехал с железнодорожниками с Гданьского вокзала. В Соколове ему сказали, что здесь путь раздваивается, одна ветка идет в Треблинку, туда каждый день отправляется товарный поезд, забитый людьми, и возвращается порожняком; продовольствия не подвозят.
Зигмунт вернулся в гетто, мы написали обо всем в нашей газете - а никто не поверил. "Вы что, с ума сошли? - говорили нам, когда мы пытались доказать, что их везут не на работы. - Кто ж станет нас посылать на смерть с хлебом? Столько хлеба переводить зря?!"
Акция длилась с двадцать второго июля по восьмое сентября 1942 года, шесть недель. Все эти шесть недель я простоял у ворот. Здесь, на этом месте. Проводил на эту площадь четыреста тысяч человек. Видел тот же самый бетонный столбик, который сейчас видишь ты.
В этом техникуме помещалась наша больница. Ее ликвидировали восьмого сентября, в последний день акции. Наверху было несколько детских палат; когда немцы вошли на первый этаж, врач-женщина успела дать детям яд.
Нет, ты тоже ничегошеньки не можешь понять. Ведь она их спасла от газовой камеры, это было просто чудо, люди считали ее героиней.
Больные лежали на полу в ожидании погрузки в вагон, а медсестры отыскивали в толпе своих отцов и матерей и впрыскивали им яд. Они берегли яд для самых близких, она же - эта врачиха - свой цианистый калий отдала чужим детям!
Один только человек мог сказать во всеуслышание правду: Черняков 1. Ему бы поверили. Но он покончил с собой.
1 Адам Черняков (1880-1942) - общественный деятель, инженер; с 1939 г. - председатель созданного оккупационными властями Еврейского совета (Юденрат).
Нехорошо поступил Черняков: умереть следовало с треском. Тогда это было очень нужно - умереть, призвав перед тем людей к борьбе.
Собственно, только за это мы к нему в претензии.
- "Мы"?
- Я и мои друзья. Те, кого нет в живых. За то, что он распорядился своей смертью как своим личным делом.
Мы знали, что умирать надо публично, на глазах у всего мира.
Разные у нас возникали идеи. Давид говорил нужно броситься на стены всем, кто только оставался в гетто, - прорваться на арийскую сторону, усесться на валах Цитадели, рядами, друг над другом, и ждать, покуда гестаповцы расставят вокруг нас пулеметы и расстреляют поочередно, ряд за рядом.
Эстер предлагала поджечь гетто, чтобы все мы сгорели вместе с ним. "Пусть ветер развеет наш прах", - говорила она, но тогда это звучало не патетически, а по-деловому.
Большинство было за восстание. Ведь человечество условилось считать, что смерть с оружием в руках прекраснее, чем без оружия. И мы приняли это условие. Оставалось нас тогда в ЖОБе 1 всего только двести двадцать. Разве это можно вообще назвать восстанием? Просто речь шла о том, чтобы не позволить себя зарезать, когда настанет наш черед.
Речь шла лишь о выборе способа: как умереть.
Этим интервью, переведенным на разные иностранные языки, многие были возмущены до глубины души, и некий литератор, мистер С., написал Эдельману из Штатов, что вынужден был за него заступиться. Три большие статьи опубликовал, чтобы умерить страсти, а название придумал такое: "Исповедь последнего вождя варшавского гетто".