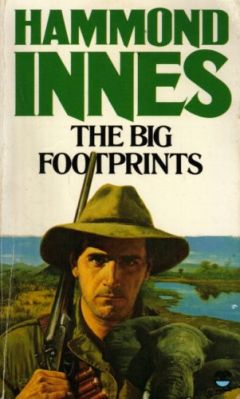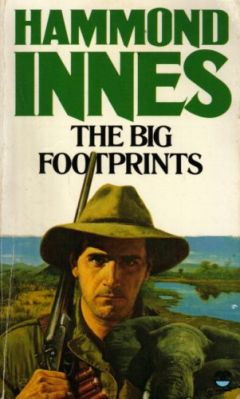Збигнев Ментцель - Все языки мира
4. И сказали они: «Построим город и башню, вершиной достигающую небес, и прославим имя свое, прежде нежели рассеемся по всей земле».
5. И сошел Господь, дабы оглядеть город и башню, которые строили люди.
6. И сказал Господь: «Вот один народ, и язык у всех один. А это лишь начало их дела: отныне, что бы они ни задумали, ничего невозможного для них не будет.
7. Так сойдем же и взболтаем им языки, чтобы один не понимал речи другого».
8. И рассеял их Господь по всему свету, и перестали они строить город.
9. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там взболтал Господь языки всех людей и рассеял их по всей земле.
Что-то в переводе резануло мне слух. Я посмотрел на третью строфу. «Налепим?» Забавно, но никуда не годится. В этом месте критик как переводчик Священного Писания себя скомпрометировал. И глагол «взболтать», хоть тут и присутствует построенная на звуках «б» и «л» языковая игра, тоже придуман не слишком удачно, куда лучше старый классический вариант «смешать». Зато поразительно меткими показались мне слова, с помощью которых в ключевых строфах — четвертой и шестой — переводчик воспроизвел то, что сказали люди и Бог. Любопытно, что в переводе критика материалом, который использовали строители, была не глина, как в хорошо мне известной Гданьской библии[4], а просто смола.
Господи, как же, должно быть, пахла эта башня!
— Майна! Ма-а-айна! — раздалось за окном.
Я посмотрел наверх. Между красных черепиц крыши дома напротив опять торчала голова рабочего, который, разъяренный, орал:
— Ма-а-йна! Твою мать!
Грузовой лифт пошел вниз. Ровно в ту же минуту, когда он остановился над землей, прекратила работать бетономешалка.
В оглушительной тишине, которая воцарилась вокруг, я услыхал свои мысли, услыхал так явственно, будто это не я думал, а кто-то во мне говорил или зачитывал все, что мне написано на роду.
А думал я, что сегодня отец пойдет на работу последний раз в жизни. Думал, что по этому случаю следовало бы что-нибудь ему подарить. Думал о смерти матери и о том, что хотела она мне сказать за несколько дней до смерти. Думал о Вавилонской башне и смешении языков. Думал о книгах, которых все еще не написал. Думал об акциях, которые накануне купил на бирже. Думал, что, если мои мысли будут мчаться одна за другой с такой скоростью, язык за ними не поспеет… Нет, думал, я не прав, там, где есть мысли, должен быть и язык, а там, где языка нет, не может быть мыслей.
Я оделся и пошел за газетами.
День был погожий. Семь градусов мороза. На барометре — тысяча двадцать один гектопаскаль. В блеске восходящего солнца на секунду мне показалось, будто все, что я вижу, нарисовано на огромном холсте, самом большом на свете театральном занавесе, и я подумал, что, возможно, однажды занавес раздвинется передо мной, и тогда я пойму, зачем живу.
— Добрый день, — я поклонился дворничихе, которая вышла из дома напротив с круглой корзиной, полной свежевыстиранного белья. Несмотря на минус семь, на ней была только майка, из которой выпирало ее белое тело. Корзину она крепко прижимала к себе обеими руками и была похожа на борца, схватившегося с достойным противником.
— Добрый день, добрый день… — Дворничиха поставила курящуюся корзину на землю, заслонила ладонью глаза от солнца, посмотрела на окно третьего этажа, где сидела, устремив неподвижный взгляд в непроницаемое будущее, парализованная после инсульта женщина, и, указав выразительным жестом сперва на женщину, а затем на белье, сказала печально:
— Смерть высматривает, а у меня постирушка…
Я кивнул и пошел дальше.
Каждый день, выходя из дома за газетами, я встречал за углом двух мужчин, которые в это время выводили на прогулку своих собак.
С обоими я был едва знаком. Когда коммунисты отменили военное положение[5], тот, что помоложе, организовал мероприятие под названием «Цепь людских сердец». Помню, как он через мегафон призывал прохожих в назначенный день выйти на улицы, взяться за руки и цепью окружить весь наш город. Мероприятие удалось. Милиция следила за порядком, но не разгоняла собравшихся, и только кое-кому в толпе помяли бока. Организатор, выступая по телевидению, торжественно пообещал, что вскоре оплетет цепью людских сердец всю Польшу, затем всю Европу и, наконец, весь мир, однако до этого пока не дошло.
Второй, пожилой, был замминистра культуры в коммунистическом правительстве, а до того — многолетним главным редактором сатирического журнала. Чем он занимался после падения правительства? Не знаю. Говорят, перевел с немецкого биографию Геббельса и под псевдонимом пописывает театральные рецензии для «Трибуны».
Оба уже сильно лысели — младший собирал остатки волос на затылке в конский хвост, старший предпочитал «заём». За первым тащились две облезлые суки неопределенной породы, рядом со вторым шествовала огромная немецкая овчарка — он выводил ее без намордника и не на поводке, а держа за ошейник у самого загривка. Однажды пес начал рычать и рваться к сукам, и тогда младший не выдержал и рявкнул:
— Такую скотину нельзя выводить во двор без намордника! Вам что, закон не писан?!
Старший побледнел и крепко сжал зубы, будто на кончике языка у него вертелись заключительные слова русской повести «Верный Руслан»: «Фас!.. Фас!»
Я повернул налево — интересно, что я увижу за углом сегодня, — но вспомнил, что иду за газетами гораздо раньше обычного. Мужчин с собаками не было. Зато у входа в Высшее пожарно-техническое училище мелькнула фигура знакомого архитектора, который мечтал написать книгу о самых красивых мостах мира. Что он там делал? Может, я принял за него кого-то другого?
Я перешел оживленную улицу Словацкого, внимательно поглядев влево и вправо, поскольку на переходе, хоть и обозначенном «зеброй», не было светофора и очень часто водители, пренебрегающие железным правом, отдающим преимущество пешеходам, кого-нибудь сбивали.
Киоск, в котором я покупал газеты, был одновременно и цветочным. В тесной каморке, на пяти квадратных метрах, сын пани Тересы, Гжегож, изготавливал венок к чьим-то похоронам и, прикрепляя тонкой проволокой красные розы к основе из свежих пихтовых веток, попутно обслуживал клиентов.
— Выборку, житуху, супер-дупер, попрош-ш… — сказал стоящий передо мной известный прокурор.
Пан Гжегож, не задумавшись, протянул ему «Газету выборчу», «Жице Варшавы» и «Супер-экспресс».
— И бутерброд, — попросил прокурор, веселый в тот день, как канарейка, и пан Гжегож, успевший вынуть изо рта кусочек проволоки и наколоть на него очередную розу, мгновенно положил на прилавок пачку «Мальборо лайт».
— Мое почтение, — любезно приветствовал он меня. В киоске я считался хорошим клиентом, так как всегда покупал много газет: почти все ежедневные, еженедельники и даже глянцевые журналы для женщин. — Мое почтение, приветствую вас, прекрасную погоду вы нам на сегодня заказали, — продолжал он с притворным, но хорошо ему удающимся энтузиазмом и с ходу начал рассказывать о чем-то, приключившемся с ним накануне, но я, занятый своими мыслями, слушал его вполуха, помню только, что он все время повторял: «Ну и болтался, как еврей в пустой лавке».
Я заплатил за газеты и вышел на улицу.
Перед домом я ощутил в воздухе знакомый запах стирального порошка «Ариэль». В окне на третьем этаже дома напротив женщина, парализованная после инсульта, не двигалась с места. «Смерть высматривает, а у меня постирушка…» Глядя на женщину, я подумал о своей жизни.
Почему, хотя я так долго учил немецкий, английский, французский — не считая русского, который обязан был учить в школе, — я до сих пор не могу говорить ни на одном из этих языков?
Почему я не говорю на иностранных языках? — думал я, открывая дверь квартиры и не зная, что через несколько часов найду ответ на этот вопрос, и это будет важным, очень важным, но, пожалуй, не самым важным основанием для того, чтобы только что начавшийся день я запомнил лучше, чем все прочие дни, какие до сих пор прожил.
3
Пишущая машинка
Однокомнатную квартиру — двадцать четыре квадратных метра — я купил за самую ценную семейную реликвию: золотые часы с черным рельефом на крышке, траурные часы, заказанные прабабушкой после разгрома Январского восстания[6].
Часы дала мне мать через три месяца после того, как коммунисты ввели в Польше военное положение.
В тот год мне исполнилось тридцать, и я все чаще задавал себе вопрос: приобретет ли наконец моя жизнь более глубокий смысл, чего пока ей, как мне казалось, недоставало.
Я тогда еще жил с родителями.
Чтобы подработать к отцовской зарплате, мать организовала частный детский сад. В моей комнате каждый божий день с утра резвились на полу десять ребятишек, с криком вырывая друг у дружки дудки, барабан, оловянных солдатиков, паровоз, деревянного клоуна, кубики, плюшевую обезьяну, уже лишившуюся обеих нижних конечностей, и множество других поломанных игрушек, которые в нашей семье переходили из поколения в поколение.