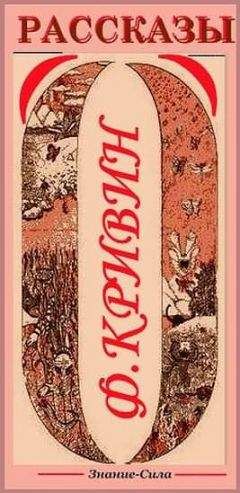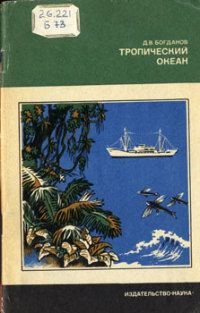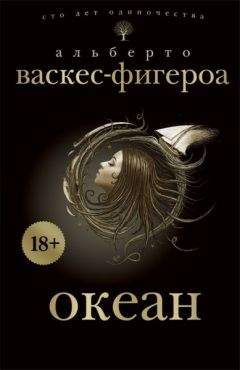Мария Романушко - В свете старого софита
И ещё:
– Так писать, как пишете вы сейчас, – не каждый выдержит, нужно много мужества. Выдержите ли вы?
– Вообще-то я сильная…
– Ну, дай-то Бог!
…Уже давно прозвенели все звонки на лекцию… Девчонки мои стояли у дверей в аудиторию, поджидая меня, ошалевшие от неожиданности: Романушка и Громов сидят вдвоём в пустой аудитории и о чём-то говорят, не слыша звонка на лекцию!
Потом Дюшен читала мою тетрадь…
Странно, что показать стихи девчонкам было страшнее, чем Громову. Хотя Громову, апологету Серебряного века, тоже страшно. Кстати, а вот он не сказал, что я кому-либо подражаю. Потому что никому я не подражаю. А из редакций мне пишут рецензенты: вы подражаете Есенину, другой пишет: вы подражаете Блоку, третий: вы подражаете Цветаевой, четвёртый: вы подражаете Ахматовой. Ещё меня упрекали в подражании Рождественскому, Лермонтову и Маяковскому! Но ведь не может человек подражать сразу столь разным поэтам! Кстати, в подражании Цветаевой и Ахматовой меня упрекали даже тогда, когда я их ещё не читала! Потом, спустя много лет, когда сама буду работать в издательстве, я узнаю, что существует такой замечательный способ «отшить автора с улицы» – упрекнуть его в подражательстве. Неважно кому! Никто ведь проверять и разбираться не будет: так это или не так? «Вы подражаете…» – и автор лежит, поверженный на лопатки. И даже если это устная беседа, и ты попробуешь вякнуть:
– Да нет, я и поэта-то такого не знаю, и не читала его…
– Значит, вы невольно ему подражаете!
И как возразить на это?…
Но Громов (Громов!) великий знаток русской поэзии, ни в каком подражательстве меня не упрекнул! Напротив. Он посетовал, что в стихах моих слишком много меня.
Дюшен, дочитав мою тетрадь:
– Романуш, это же потрясающе! А мы тебя держали за девочку из провинции…
– Я и есть девочка из провинции – факт моей биографии. Восемь лет в степи – это накладывает на человека пыльный отпечаток. Но зато в степи никто не мешал писать стихи.
– А ты, вообще, давно их пишешь?
– С одиннадцати лет.
– И ничего нам не показывала.
– Не решалась. Вы все такие образованные… а я…
– А Громову не побоялась?
– Ну, если бы Громов меня разгромил, это было бы не так обидно. Это было бы даже естественно, я именно к этому и готовилась. От такого человека и критику выслушать лестно.
– А он?
– Сказал, что это – стихи.
– И всё?!
– Ну, ещё много хороших и важных слов сказал.
Дюшен долго молчала и, наконец:
– Послушай, а тебе всегда ТАК плохо?
– Нет. Вот в прошлую среду было хорошо.
– Это ужасно!
А Громов лекцию прочёл только мне! Два часа он обращался только ко мне. Такое у меня было ощущение. Тема: поэт в этом мире.
* * *
Верочка (из нашей колхозной компании) состоит в дальнем родстве с семьёй Ярослава Смелякова, одного из самых задушевных современных поэтов:
Если я заболею,
обвяжите мне горло туманом…
А ещё:
Хорошая девочка Лида
На улице Южной живёт…
Так вот, Вера вхожа в их дом, где бывает поэтическая элита, Вера частенько бывает там, с Женей Евтушенко запросто общается, дружит с молодым поколением семьи Смеляковых: с пасынком Смелякова Алёшей и его женой Тамарой (являясь Тамариной двоюродной сестрой). Так вот, Вера влюбилась в мои стихи. И захотела сделать для меня доброе дело.
Она отнесла мои стихи в дом Смелякова. Жена у Смелякова тоже поэт и переводчик. ТАМ почитали мою рукописную книжку. С интересом. И передали с Верой для меня слова, смысл которых заключался в следующем: стихи хорошие. Книга получилась. И если бы это была не первая, а хотя бы вторая моя книга, то можно было бы без проблем опубликовать. Но, поскольку книга первая, имя моё неизвестное, а стихов-паровозов нет, и явное влияние Цветаевой прослеживается, то опубликовать вряд ли удастся.
Вера, радостно:
– Ромашечка, я так счастлива за тебя!
– ?…
– Они тебя так хвалили! Причём, совершенно искренне.
– Да, Верочка, спасибо за заботу. За хлопоты.
В отличие от Веры, мне было грустно. Поскольку передо мной была поставлена невыполнимая задача: чтобы моя первая книга была не первой, а сразу второй! А, поскольку первая никогда не станет сразу второй, то и…
– Они сказали, что очень хотели бы помочь тебе, но не знают, как.
– Да я и не просила никого помогать. Это твоя была затея: «покажу Смелякову, он напишет предисловие, с предисловием Смелякова книгу тут же напечатают!»
– Ну, прости. Кстати, Ромашечка, они сказали, что книга, где всё только о любви…
– У меня не только о любви.
– Ну, почти. Да к тому же так грустно всё… Такую книгу невозможно напечатать в принципе. Всё-таки в начале книги что-то должно быть такое… ну, ты меня понимаешь. Так принято, ну что тут поделаешь? Гражданская тематика должна в книге присутствовать. Почитай хотя бы Евтушенко. У него всё уравновешено: и лирика – и всё остальное. И если бы ты могла… написать что-нибудь такое… хотя бы стишков пять.
– Что?! – взвилась я.
– Но ты же хочешь, чтобы у тебя была книжка?
– Не таким же путём!
– А разве есть другой путь? – спросила заботливая Верочка.
– Не знаю. Но стишки на «заданную тему» писать не собираюсь. Лучше пусть у меня никогда не выйдет ни одной книги…
* * *
«Томбэ ля нэжэ…»
Падает за окнами тёплый пушистый мартовский снег…
Что-то бормочет лектор…
Дюшен, Лянь-Кунь и Мама Ева вяжут, они виртуозы в этом деле. И Тишлер приобщилась к рукоделию. Итак, все с упоением вяжут (практически весь наш девчачий курс), пока лектор толкует нам о библиографических премудростях, или рассказывает историю книжного дела в России… Семененко сидит, рисует… А я пишу стихи…
* * *
. Жила…
. Мне страшно, как жила.
. Жила – как в полынью ступала.
. У солнца, у весны в опале
. Я столько лет была!…
. Жила – как в сирый день поста.
. Но Вы пришли –
. нездешний, странный…
. О губы! –
. исцеленье ранам…
. И взгляд –
. как снятие с креста!
* * *
«Вы подражаете сразу всем поэтам», – написал мне очередной рецензент. Смешно…
Конечно, нет. Конечно, это было не подражание, ибо подражать сразу всем невозможно, даже будучи человеком-оркестром.
Это было – обживание. Обживание новых планет, новых ритмов… Это было открытие новых красок в палитре. Это было время счастливого ученичества и раскрепощения…
…Познав другие планеты, наглотавшись морозной свободы и новизны, я со всем пылом девятнадцати лет ринулась обживать СВОЮ планету. В центре моей планеты, в центре жизни оказались Цветной бульвар и – старый, сутуловатый цирк…
* * *
…Живу не столько дома, сколько у подруг. Мой маршрут:
Комсомольский проспект (Дюшены – потрясающая библиотека, круглый стол на кухне, манящее тепло семьи) -
Проспект Мира (Семененко – её взрослая независимость и самостоятельность, важные для меня разговоры о том, как не зависеть от взрослых, а ещё – маленькая пишущая машинка у окна) -
Смоленская площадь (Тишлер – хранительница нашего общего архива и её чудная мама Элла Яковлевна, такая заботливая и ласковая, она тут же начинала меня кормить, переживая из-за моей худобы, и расспрашивать про мою жизнь, ей можно было рассказать про сложности с мамой и Фёдором, она мне сочувствовала) -
Марьина Роща (Лянь-Кунь – музыка, уединение, разговоры до утра…)
* * *
…Я помню, как мы ржали в метро… Шестеро девчонок. Мне казалось тогда, мы – одно целое, как шестикрылый серафим… Хотя уже тогда было ясно, что мы все очень разные.
* * *
Сочиняем на лекциях дурашливые стихи, соревнуемся: кто дурашливее.
Стишки наши в рукописном виде расползаются по курсу. Одна активная девочка, Рая, вдруг самолично выпускает стенгазету. Ничего не сказав мне, она печатает в газете один из моих опусов. На её взгляд: самый смешной. Там есть такая строфа:
И плешивый гад придёт, рыдая,
Прижимая цветики к груди,
Эта жизнь такая сволочная!
Только мы на истинном пути…
В стенгазете напечатали: «год». Не «плешивый гад» – а «плешивый год». А это был год столетия Ленина, вся страна готовилось праздновать день рождения любимого вождя, а тут вдруг – «плешивый год»!