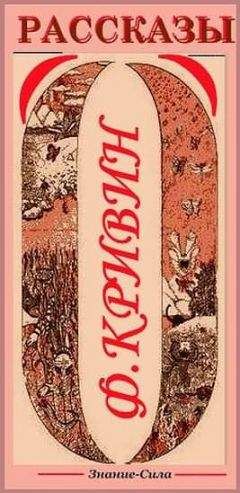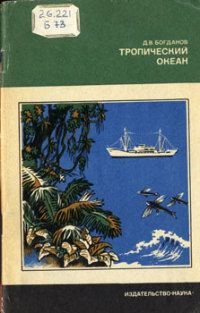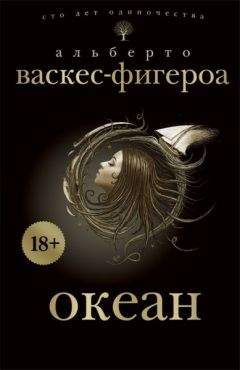Мария Романушко - В свете старого софита
И тут в рассказе появляюсь я (но безымянная) – в роли Ксанкиной подруги. И именно мне Ксанка рассказывает о потрясающем клоуне. О том, что он воскресил её душу. О том, что ей опять захотелось жить.
А потом Ксанка встречает клоуна на улице, у них происходит разговор, клоун читает ей свои стихи, и Ксанка понимает, что клоун, подаривший ей музыку, грустен и одинок – так же, как она…
Вот такой получился рассказ. На нашей галёрке его одобрили.
Семененко спрашивает:
– А почему ты дала ему другое имя? И себе тоже.
– Потому что это рассказ, а не мемуары. Художественное переосмысление случившегося.
– Романушка, ты не думала о том, что ты являешься основателем особого течения в искусствоведении?
– Какого течения?
– Енгибароведения!
После чего она спросила:
– А ты не хочешь послать ему?
– Я ведь не знаю его адреса. Это – во-первых. А во-вторых – страшно…
– Почему?
– Вдруг не понравится?…
– Во-первых, не понравиться не может. Потому что рассказ хороший. А каждому артисту интересно знать, как зритель воспринимает его творчество. Это же очень важно – ответная реакция зрителей. Ради этого артист и работает, собственно говоря. А насчёт адреса… Думаю, послать можно просто на адрес московского цирка. Уверена, что ему передадут.
…Но прошла зима, а я так и не решилась отослать свой рассказ адресату.
* * *
Прочтя рассказ, Дюшен задумчиво спросила:
– Романуш, а ты сама никогда не хотела быть клоуном?
– Я?! клоуном?!
– Ну, да. В тебе есть что-то клоунское.
– Но ведь это мужская профессия…
– А ты была бы первой женщиной-клоуном! Уж если женщина в космос летает, неужели она не может выйти в цирковой манеж?
Меня её слова ошеломили. Испугали. И… обрадовали! Внутри меня как будто открылся ларчик с секретом, который был заперт даже от меня самой. И вот, благодаря одному вопросу: «А не хотела бы ты сама быть клоуном?» – тайное стало явным.
Да, я мечтала о цирке с трёх лет. С первого похода в цирк. Но эти мечты были не столько мечты, сколько сожаления: «Ах, почему мои родители не циркачи?…» А если бы мои родители были циркачами, я бы стала, скорее всего, воздушной гимнасткой. Или наездницей. О клоунаде я не помышляла. И вот, Дюшен взбаламутила всю мою душу…
С того ноябрьского дня (а это было, судя по дневниковым записям моё заветное число, когда в моей жизни происходят самые значительные события – тринадцатое), так вот с того дня я больше не знала покоя. Чем бы я ни занималась, я при этом постоянно размышляла на волнующую меня тему: в каком бы образе я выступала, если бы решилась выйти в манеж? Рискнула бы выйти в женском облике? или спряталась бы за маской мужчины? Говорила бы в манеже – или, как Енгибаров, молчала? Была бы весёлым клоуном – или грустным?… Красный нос, рыжий парик, смешные башмаки – нужно ли это мне? Заходила в магазин ВТО, рассматривала парики, мысленно примеривала. На покупку денег не было. Или выйти просто так, брюки и свитерок, почти без косметики, как я есть в жизни, – наверное, это тоже было бы смешно… Или – грустно?…
А главное – ЗАЧЕМ я туда хочу выйти? О чём сказать миру?…
Мой будущий клоунский образ без конца обсуждался на нашей галёрке.
Семененко на лекциях постоянно рисовала. И однажды она нарисовала меня, как она меня видит: худющее существо с тоскливыми глазами, с копной волос, как у клоуна, обхватив колени руками, сидит на крошечной льдине… которую несёт неведомо куда… А вокруг – пустота. И – ни души.
Вот такая картинка. Ничего смешного. И ничего весёлого. Надо признать, Семененко хорошо почувствовала меня. Изнутри. На картинке действительно была я.
Приятно хандрить,
смотреть,
как стекают минуты,
дни
по мокрым карнизам…
Где-то внутри
и в кончиках пальцев –
боль,
уже привычная…
И если она
на миг оставляет меня –
при сильном порыве ветра
я зову её:
«Иди обратно!
вдвоём веселее…»
Она почти не мучит меня.
Она – добрая.
Всё понимает
и не мешает
хандрить…
Смотреть, как стекают дни
по мокрым карнизам…
* * *
…Я часто приезжала к Дюшенам на Комсомольский проспект.
…Приходила, прилетала, прибредала…
Этот дом стал мне по-настоящему родным. Мне всегда хотелось сюда – тянуло, притягивало, как магнитом. Как тянет замёрзшего человека к ОЧАГУ… За последние пятнадцать лет жизни я изголодалась по семейному теплу. В доме Дюшенов я нашла для себя то, чего мне не хватало в собственном доме. ТЕПЛО!!!
Здесь мне всегда были рады, сюда можно было прийти в любое время суток, даже без звонка, здесь не надо было скрывать свои истинные чувства, не надо было напяливать маску, здесь никто не упрекал меня, если я была в грусти, или даже в тоске, здесь человека принимали таким, какой он есть. И если о чём-то расспрашивали – то бережно, осторожно, без расковыривания ран. В этом доме царили тепло и душевный такт. Были (на кухне, за уютным круглым столом, за чаем) удивительно интересные разговоры с Игорем Борисовичем, он как бы взял надо мной культурное опекунство, но это не были поучения, это не был взгляд сверху вниз (преподаватель знаменитого вуза – и юная провинциалка!). Это было общение на равных, и именно поэтому все слова его так впитывались мной, засасывались, – и я никак не могла насытиться: теплом дружбы и вот этим чудесным чувством – равноправия в беседе, в споре. Да, я многого не знала, о многом не слышала в своей степи, из которой не так давно явилась сюда – и со мной щедро делились. Не стыдя за незнание. Не насмехаясь за пробелы. Не удивляясь высокомерно: «Как? ты не знаешь? Как? ты не слышала?» Игорь Борисович говорил просто: «Наташа, дай Романушке почитать Беккета». Или: «Дай Романушке Ионеско, ей будет интересно». Или: «Романушку нужно обязательно сводить на Таганку».
Со мной щедро делились, дарили, не требуя ничего взамен. И это не был акт благотворительности или интеллигентской жалости, унизительного сочувствия к «бедненькой девочке из степи» – нет! Дюшены относились ко мне как к человеку с другой планеты (просто с другой планеты, вот и всё): относились с интересом и бережностью, и горячим желанием показать красоту и богатство СВОЕЙ планеты.
Но у меня тоже была своя тема – Мой Клоун. И когда я говорила о нём, меня с интересом слушали. Я тоже могла открыть этим людям что-то, чего они ещё не знали. Мне тоже было чем поделиться.
В этой семье не было идиллии с обывательской точки зрения. У старой бабушки был непростой характер, она была аристократка-революционерка, и потому совершенно далека от мирских, бытовых проблем сегодняшнего дня. Она жила в своём мире. Даже не знаю, выходила ли она когда-нибудь из своей комнаты. Я, по крайней мере, бывая в этом доме достаточно часто, этого не видела. Я видела старую бабушку только, когда приоткрывалась дверь в её комнату. И ни разу с ней не общалась. Я её воспринимала, как живой исторический реликт. Хотя, как теперь понимаю, она не была такой уж старой в то время. Но она была из другой эпохи.
Нина Ивановна вздыхала устало: «От свекрови помощи никакой. А Игорь совершенно оторван от жизни! Он витает в облаках, живёт в своём мире. Для него существует только литература и театр – больше ничего!» На хрупкой, но удивительно сильной Нине Ивановне держался дом, а первой помощницей ей была старшая дочь Катя. И при этом Нина Ивановна обожала своего мужа. Её вздохи по поводу оторванности мужа от реальной жизни – это был не упрёк, а признание этого факта. Ведь за то Нина и полюбила Игоря Борисовича, участь когда-то в библиотечном институте, где Игорь Борисович в то время преподавал зарубежную литературу. Молоденькая студентка из Орехово-Зуева так страстно влюбилась в оторванного от реальной жизни преподавателя, что добилась-таки его взаимности. Они, Игорь Борисович и Нина Ивановна, были очень разные, но удивительно дополняли друг друга. У него главное качество – восторженность, увлечённость, погружение в предмет всей жизнью, у неё. – пленительная простота и естественность, мудрость и терпение. Но любовь к литературе – у них было общее, ведь именно из-за любви к литературе Нина и пошла в библиотечный институт. И потом много лет работала в школьной библиотеке, где учились её дочки – чтобы быть к ним поближе. Продолжала работать в школе и тогда, когда дочки выросли. Нина Ивановна с увлечением рассказывала, как она пытается пристрастить школьников к чтению, она была счастлива, когда ребёнок возвращал ей книгу с горящими глазами и просил ещё что-нибудь «такое же интересное». Она умела общаться с чужими детьми, как со своими – без нравоучений, просто, по-матерински.