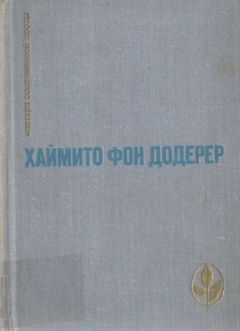Джуд Морган - Тень скорби
— Если будете так крутиться, мистер Брэнуэлл, позеленеете, как лягушка. А потом, вместо того чтобы спать ложиться, мы все будем выслушивать, как несправедлива к вам судьба.
В точности Брэнуэлл. Тэбби знала их, казалось, еще до того, как познакомилась с ними. А теперь такое ощущение, что Тэбби всегда здесь жила: морщинистое лицо, органный голос, снежно-белый фартук. Не будучи чрезмерно грузной женщиной, она все-таки запоминается крепкими бедрами и плечами и потребностью в обширном свободном пространстве.
Что там? Когда кошмары заставляют Шарлотту подскакивать на постели с этими словами на губах, Тэбби отвечает со свойственной только ей особой практичностью:
— Если хочешь разделаться с дурными снами, правильно ставь туфли, когда ложишься в кровать. Так, чтобы носки показывали не в одну, а в разные стороны — один вперед, другой назад. Тогда всю ночь будешь спать спокойно.
Помогает — или, по крайней мере, так кажется. Брэнуэлл потешается над подобными вещами.
— Суеверие. — Он только что выучил это слово и не скупится на него. — Тетушка говорит, что все это суеверие, идолопоклонничество.
Суеверие — это лица, которые Тэбби видит в огне на кухне, где дети собираются после чая; это панцирь морского ежа, который она называет волшебным хлебом и носит на счастье в кармане фартука. Но Писание Тэбби тоже знает. Она может оправдать себя праведными, благочестивыми аргументами. Когда печет хлеб, Тэбби всегда осеняет тесто крестом.
— Изгоняю крестом ведьм, — объясняет она. — Не могу сказать, есть ведьмы на самом деле или нет, мистер Брэнуэлл, но в Библии написано про одну, Аэндорскую колдунью[18], и мне этого достаточно.
Однако Брэнуэлл в любом случае очарован ею: тем, как у нее на все готов ответ. Если, как она говорит, в пойме живут призраки, почему он никогда их не видел? О, сейчас, по сравнению с теми временами, когда Тэбби была девочкой, они встречаются очень редко. Почему? Из-за строительства мельниц: мельницы отпугивают их, потому что они не любят механизмов. Всегда есть потому что; и в долгой череде воспоминаний, составляющих жизнь Тэбби, все связано и все понятно. Страшная смерть ее отца: долгая и мучительная, зловеще предреченная разнообразными знамениями.
— У него было три двоюродных брата, которые заболели тем же, и всех троих эта болячка свела в могилу меньше чем за год. Учтите, я видела, что было на простынях. Как-то раз я пошла менять постельное белье, и там, в середине, складки сложились в форме гроба, ясно как день. А на следующий день его принесли на доске, слабого, как котенка. Ох, какая же тяжелая и жестокая была у него смерть!
Как жутко… но они не стоят на месте, сокрушаясь над ужасом, потому что надо поспевать за убегающим вперед рассказом, где раскрывается новая простыня и где жизнь обнаруживает новую форму.
— Оставался у отца последний кузен, который жил неподалеку от Китли, и тот приехал, чтобы повидать его перед смертью. Это всех потрясло, потому что двоюродные братья когда-то рассорились и годами не разговаривали друг с другом, даже если пересекались на улице. И тогда выяснилось, почему они враждовали: оказывается, отец мистера Эйкройда совершил подлость по отношению к своей сестре, матери того самого кузена, много лет назад обманом лишив ее законного наследства…
Поток кажется неисчерпаемым, никакие обстоятельства не в силах иссушить его или заморозить: на очереди всегда какая-нибудь новая история. Даже смерть не может прекратить эти рассказы. И Шарлотта замечает, что ее кошмары постепенно слабеют, хотя и не исчезают вовсе. А еще с приходом Тэбби она обнаруживает, что добро могут не только беспощадно вычитать из человеческой жизни, но и прибавлять к ней. Хотя больше остальных к Тэбби тянет, пожалуй, Эмили — или, скорее, девочка поражена ею, как черными грозовыми тучами, самыми громкими и наглыми фуньками Брэнуэлла, каким-нибудь словом. (Забытье. Одно из любимых, вычитанное у Байрона. Они используют его перед сном, когда заново изобретают жизнь в разговоре. Спишь? Нет, я впала в забытье. Глубокое? Да, оно проходит сквозь землю до самого Китая.)
Что там? Мир — и в нем нет ничего неодушевленного. Скорее он похож на войско, многочисленного врага, разбившего лагерь прямо за кострами и часовыми. Недавно он совершил варварский набег, вырвал из наших рядов двоих, утащил их в ночь, и никто не успел даже опомниться. Поэтому нужно быть еще более бдительными на посту: нужно крепко-крепко держаться друг за друга.
— Шарлотта, ты еще не закончила? Моя очередь.
— Нет, Бэнни, он был у тебя до пяти часов. Я посчитала, — говорит Эмили.
— Можешь почитать его вместе со мной, если хочешь.
— Посмотрим. Нет, я уже прочитала эту страницу. О, ты видел стихотворение, что прямо перед этим? Оно изумительно, ве-ли-ко-леп-но.
— Неплохое, но чересчур длинное. И что значит «ланиты»?
— Что-то нежное. Нет, сильное. Не уверена. Я потом спрошу у папы. Но звучит хорошо.
Эмили:
— Прочти стихотворение вслух, Шарлотта.
— Оно довольно грустное. Энн может расстроиться.
— Ах, пожалуйста, прочти, я не буду плакать, обещаю. Я бросаю плакать. Это слишком презренно.
Место действия — маленькая комнатка над прихожей, детский кабинет, как они его называют; издание — последний номер журнала «Блэквудз мэгэзин», литературная критика. Комната холодная, нет ни ковра, ни камина; журнал непривлекателен на вид — обернут бумагой, толстый, как гроссбух, испещренный монотонными колонками мелкого шрифта. Но все же есть какая-то искра.
— Презренно? — смеется Брэнуэлл. — Где ты этого набралась?
— В книжке «Тысяча и одна ночь».
— Ты не можешь ее читать, не так ли?
— Конечно может, мы читали ее вместе, — говорит Эмили. — Продолжай, Шарлотта, — стихотворение.
Не огонь, но что-то горит там. Снаружи ветер ревет и бурчит себе под нос, покинутый всеми безумец. Что там? Всего лишь мир. Ничего, о чем нам стоило бы беспокоиться.
Когда дела церкви приводили Патрика в Лидс, он по поручению тетушки Брэнуэлл делал там закупки. «Пожалуйста, полотенечную ткань, мистер Бронте, и сахарного мыла; и, если будет возможность, моего нюхательного табаку, смесь Гордона, но ни в коем случае не сбивайтесь с ног…» Патрик, исполнительный и бережливый покупатель, достал все это по самым низким ценам, потом пересек Коммершиал-стрит и зашел к своему парикмахеру. Стрижка, простая и строгая: он вспомнил, как раньше, даже после женитьбы, любил зачесывать волосы вперед и поверх ушей в стиле а-ля Тит. Скорее древний римлянин, чем викинг. «Ох, и щеголем я был», — думает Патрик и удрученно созерцает крапчатый цвет срезаемых и падающих на пол прядей. Хотя нет, не крапчатый: седеющие волосы не имеют цвета. Правда ли, что волосы белеют от горя? Тэбби рассказывала, будто некоторые люди от потрясения становились седыми всего за одну ночь. Патрик не отметает этих историй. Он всегда верил, что возможно всякое. (Страшно, если так и будет на самом деле.) В укромной нише висят блестящие парики: теперь их покупают тайком. Во времена его ирландской молодости приличный наряд обязательно должен был венчаться внушительным париком из конского волоса, гордо возвышающимся над головой, с буклями по бокам. Парикмахер говорил о ценах на шерсть и трудных временах. «Все времена трудные, — думал Патрик, наблюдая, как его остриженная голова медленно вальсирует в зеркале парикмахера, и кивнул ею в знак одобрения. — В прошлом году я похоронил свое любимое дитя, в этом году Мария по-прежнему мертва». Перед уходом он купил бутылочку духов, чтобы смачивать свой носовой платок; лето — сезон тифа, и ему предстоит посетить многих заболевших. Выходя на солнце, Патрик увидел, как сын парикмахера подметает пол, смешивая его волосы с другими волосами, безвозвратно; и подумал о склепе в хоуортской церкви.
Прокладывая путь через мусор и грязь улицы, Патрик смотрел под ноги и не заметил, как она возникла рядом с ним, почти прикоснувшись к нему.
— О, сударь, знаю, вы простите меня за прямоту, но все дело в вашем лице, я не могу сопротивляться вашему лицу…
Патрик вдыхает характерный затхлый запах, какой бывает, если выпить спиртного на пустой желудок. Попрошайка; несчастное юное создание, которому можно дать несколько пенсов. Но она должна знать, что выпивка только усугубляет ее страдания… Шокированный, Патрик обнаруживает, что его схватили за руку: она тянет его в какой-то дверной проем, украдкой прижимает его ладонь к своей теплой талии. Он всматривается в накрашенное лицо. Не такая уж молодая. И не попрошайка. Господи Иисусе, насколько же глубока и отчаянна ее деградация — среди бела дня, служителя церкви…
— Дитя мое, прекрати, подумай, что творишь. — Он с трудом высвобождает руку. — Знаю, выпивка затуманивает твой разум, и совесть тоже. Задумайся хоть на миг. Разве не знаешь, кто я?