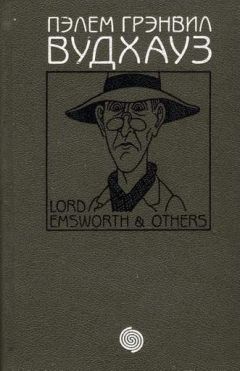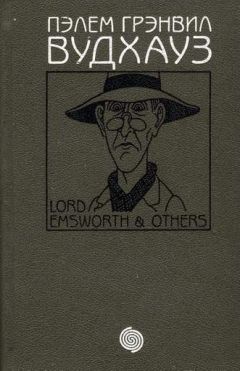Евгений Марысаев - Рыжий черт
— Сатана, — то ли в шутку, то ли серьезно сказал пилот.
Пожалуй, он был прав.
Неожиданно на полном ходу распахнулась дверца. В багажное отделение с ревом ворвалась мощная струя студеного воздуха и сбила на затылок мою ушанку. На страшной глубине проплывали игрушечные юрты якутской деревни.
— Ничего себе, какие номера драндулет откалывает! — восторженно воскликнул Жорка.
Я попробовал захлопнуть дверцу.
— Замок сломан, — пояснил пилот. — Там есть веревочка, привяжи посильнее.
— Позвольте узнать, может, у вас и винт веревочкой привязан? — съехидничал Жорка.
— Последние дни доживает машина, — как бы оправдываясь, сказал мне пилот, когда я закрепил дверцу. — В конце месяца спишут... старая уже. Четыре года на ней летаю, полюбил, как человека, не знаю, как расставаться буду...
После этих слов Жорка не подтрунивал над пилотом.
II
За иллюминатором полыхал короткий и яркий северный день. Солнечный диск был тверд, слюдянист и красен. Вокруг солнца струилось прокаленное морозом марево. На земле все краски были ярки, густы и пронзительны.
Четыре цвета царили внизу: зелень тайги, ослепительная, бьющая в глаза белизна снега, огненная рыжеватость скал и смоляная чернота теней. Небо светилось ласковее, тоньше; хорошо различались звезды и острый, как бритва, месяц.
Полтора часа полета над цветастой землею — и под крылом самолета поплыли ставшие родными за год места: непокорно, буграми и острыми пирамидами смерзшийся по краям Вилюй, громады скал-берегов, ощетинившихся зубчатыми вершинами, копры буровых вышек и наш неказистый бревенчатый барак с вечным, словно застывшим столбом дыма из печной трубы. Когда на улице разбойничает мороз под шестьдесят градусов и ломается твердая, как камень, одежда, кажется, что нет на свете ничего милее и желаннее нашей хижины.
Скалы и река вздыбились — самолет описал дугу и пошел на посадку. Белая река все ближе, ближе. Удар! Жорка свалился с ящика на дюралевый пол. Иллюминатор запорошило снегом. Потом затухающие толчки, и самолет наконец остановился.
Непривычная после сильного рокота двигателя оглушительная тишина. Лишь кричит белая куропатка, напуганная появлением чудовищной, так громко ревущей в полете птицы.
Был воскресный день, и нас встречало все население партии, двадцать человек. От барака к самолету скользила маленькая оленья упряжка в две нарты.
Я спрыгнул на снег. Ко мне подошел начальник партии, человек средних лет с широкой, лопатой, бородою, смоляными прядями падающей на грудь. Он вопросительно посмотрел на меня, пожимая руку.
— Порядок, Константин Сергеевич, задание выполнено.
— Спасибо.
— Приветствую доблестных покорителей Севера! — раздалось позади. — Здравствуйте, ребята!
Ребята, то есть бородатые мужики (самому младшему было тридцать лет), уставились на оратора. В дверном проеме самолета стоял Жорка.
— Будем знакомы: меня зовут Георгием, кому угодно, зовите запросто, Жоркой, — говорил Жорка. Похоже было, что он собирался произнести речь.
— Кого ты привез?.. — упавшим голосом спросил меня начальник партии.
— Дьявола рогатого, сатану, черта рыжего — не разобрал еще, — ответил я.
Жорка вылез из самолета и пожал всем руки. Потом посмотрел на горы, что дыбились по берегам, скользнул взглядом по незамерзающему порогу, видневшемуся вдалеке облаком пара, и заявил:
— Местечко ничего себе, нравится... — Глаза его остановились на бараке, прилепившемся одним боком к скале. — А в этой хижине дяди Тома мне, очевидно, предстоит коротать ночи? Напоминает скотный двор. Но и я прилетел не на курорт отдыхать... Что ж, идемте.
С этими словами он направился к бараку и, поравнявшись со мною, подмигнул и улыбнулся во всю свою веснушчатую рожу, как бы спрашивая: «Вроде бы ничего загнул, а?»
— Ну и трепло! — сказал я.
— Треп и красноречие — две разные вещи, молодой человек, — объяснил Жорка. — Кстати, ты довольно косноязычный малый. «Трепло» и «кончай травить» — вот и весь твой словарный запас.
Раздался дружный смех.
— Ай да рыжий! — одобрил кто-то из рабочих.
Я припечатал унтом пониже Жоркиной спины — он пробежал вперед, однако на ногах удержался. Обернувшись, небрежно бросил:
— Большой, а без гармошки.
И опять все заржали.
Внутренность нашего бревенчатого барака Жорка рассматривал с любопытством и насмешкой. Внимательно оглядев все, сказал:
— Я в восторге от этой собачьей конуры, ребята!
В геологических партиях и труднодоступных районах не до комфорта, и слова Жорки были недалеки от истины: голые бревенчатые стены с сучками и зарубинами, нары из необтесанных жердей лиственниц, грубые, наспех сделанные стол и лавки. Два оконца, разумеется, без занавесок (сказывалось отсутствие женщин), громадная шкура медведя, убитого мною этим летом, валялась на полу и служила не украшением, а половиком.
Жорка пожелал спать на нарах, пустующих рядом с моим ложем, расстелил спальный мешок, уселся на нем с ногами и начал строчить разные истории, отчего сдержанные, немногословные рабочие, обо всем уже давно переговорившие друг с другом, покатывались со смеху.
Константин Сергеевич сообщил нам новость, переданную утром по рации из соседней партии: глухой ночью на крышу жилого барака забрался медведь-шатун, со страшным ревом свернул печную трубу, начал было разбирать крышу. Насмерть перепуганные рабочие, выскочив с ружьями на улицу, палили жаканами по разбойнику, но он ушел в тайгу. Утром снарядились в погоню по следу, но обнаружили застывшие кровавые пятна и отдумали: раненый «хозяин» хитер, коварен и жесток.
— Страсти-мордасти! — весело сказал Жорка. — Напиши я о такой шутке моей бедной мамаше, которая падает в обморок при виде мыши, что бы с ней случилось?! А что, далеко от нас эта партия?
— Километров шестьдесят—семьдесят.
— Черт возьми, есть надежда, что он и нас посетит?
— Возможно.
Потом мы обедали. Жорка выставил на стол все содержимое своего рюкзака. Чего только не припасла в дорогу сыну бедная мамаша! И яички, и домашние пирожки, и вареную курицу, и апельсины, и конфеты, и печенье...
— Налетайте, граждане, — пригласил хозяин лакомств.
— Ишь, раскошелился, — неодобрительно покачал головою Федорыч, пожилой буровик. — Припрячь, припрячь, паря, самому потом сгодится.
— Верно, — согласился кто-то. — Разве что конфеты оставь, побалуемся.
— Че я, жмот, что ли? Если сейчас все не слопаете, пойду и оленям скормлю. Ей-ей!
Нам пришлось подчиниться, потому что он действительно хотел выполнить свою угрозу.
После обеда Жорка сконфуженно попросил разрешения покататься на оленях. Просил он так, будто мы наверняка откажем, а когда получил разрешение, обрадовался, как дитя.
Я снял со стены маут[1], мы оделись и вышли на улицу.
Стояли уже глухие сумерки, хотя часы показывали всего три часа дня. Солнце исчезло; о нем напоминала лишь неширокая малиновая полоска на западе. Наверху калеными металлическими осколками дрожали звезды. Землю уже освещала лупоглазая луна.
Залитые лунным светом, на поляне паслись олени. Пугливые важенки подняли головы и уставились на нас. Я метнул маут, поймав за рога самого крупного, широкогрудого самца. Он крутнул головою, намереваясь вырваться, но я быстро подбежал к нему и пригнул к земле рога. Теперь он будет послушным, как котенок.
— А где нарты? — задыхаясь от волнения, спросил Жорка.
— Верхом не хочешь?
— Разве на оленях ездят верхом?..
Вместо ответа я вскочил на оленя, и он рысцой пробежал по поляне круг.
— Садись, малыш. И крепче держись.
Жорка вспрыгнул на животное с кошачьим проворством и завопил то ли от страха, то ли подбадривая себя. Олень вскинул рогатую голову и понес. Скоро беспокойный всадник подпрыгивал внизу, на Вилюе.
— Далеко не заезжай! — крикнул я. — Здесь не улица Горького, мишка задрать может!
Перед тем как лечь, когда все, кроме меня и Жорки, уснули, он запалил керосиновую лампу и раскрыл свой огромный чемодан. Добрую половину чемодана занимали маленькие красочные томики в твердых и мягких переплетах.
— Что за книги? — спросил я.
— Стихи.
— Дай что-нибудь глянуть.
— Только, пожалуйста, не трепли, — бережно передавая мне томик Пушкина, попросил Жорка. — На растрепанную книгу мне смотреть так же больно, как и на избитого человека.
Он выбрал нужные стихи, осторожно перекладывая книги, и при этом лицо его было непривычно серьезным, почти торжественным.
— Ты так любишь стихи, малыш?
— Странный, как же можно не любить поэзии? Эта любовь — главный признак, отличающий нас от животных. Для меня, например, не существует человека, если он скажет, что стихи пишутся для забавы. Заболоцкий тебе нравится?
Я заерзал в спальном мешке: имя Заболоцкого я слышал, но никогда не читал его стихов.