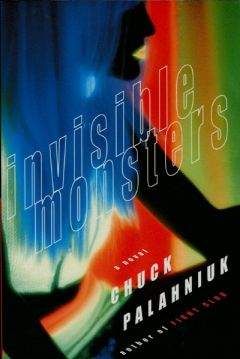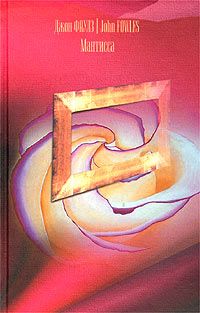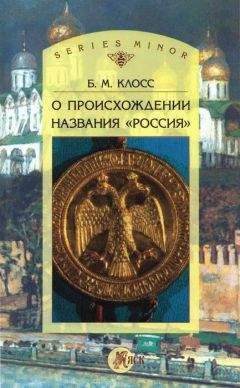Джон Фаулз - Даниэл Мартин (выдержки из романа)
Показался мой отец, он катит в гору велосипед, рядом шагает девчонка. Я бегу к ним, изображая гонца. У девчонки одутловатое лицо, ее зовут Маргарет, в воскресной школе ее прозвали косая четырехглазка. Она косит и носит очки. Я передаю отцу сообщение, и он говорит: «О Боже. Ах да». Потом: «Спасибо, Дэниэл». Отдает мне нести свой зонт. На меня уставилась Маргарет. Я говорю: «Добрый день». Она поднимает глаза на отца, потом косится на меня и говорит: «- лло». Она идет в деревню навестить тетку. Мы тащимся по тропинке назад, отец посредине, слева от него я с зонтом, чуть позади Маргарет, время от времени она чудными решительными выпадами увеличивает шаг, чтобы не отстать. Мне одиннадцать лет, ей десять. Мне нравится одна девочка из воскресной школы, только это не Маргарет. Девчонки мне не нравятся, но мне нравится сидеть близко к той, другой девочке, стараться петь громче ее. Ее зовут Нэнси. И глаза ее цвета летней синевы не косят. Они смотрят на тебя (ей тоже одиннадцать), и у тебя захватывает дух. Она всех нас может пересмотреть.
Снова запел лесной жаворонок. Я говорю про это отцу. Он останавливается. «Да, это он». Он спрашивает Маргарет, слышит ли она сладкозвучную птичку. На этот раз она косится на меня, а потом уже поднимает глаза на него. («Мы вот сл’шали пт’чку, мам, и мист’р Март’н, он н’м ск’зал, как ее зв’ть!» Легкое повышение интонации на «мам» и «звать»). Сейчас она просто кивает с серьезным видом. Безмозглая деревенщина. Я злюсь на нее, потому что сейчас на велосипеде поедет она, а не я. Так и есть, когда тропинка выровнялась, конечно же это ее пухлые ножки проплывают над седлом, пристроенном к раме. Качаясь из стороны в сторону меж рук отца, она удаляется. Едет он медленно, но мне приходится трусить рысцой. Да еще этот дурацкий зонт. Я в ярости. У нас есть старая машина, Стандарт флайинг-12, но иногда, как вот теперь, мой дурацкий отец отправляется на своем старом заржавленном велосипеде. Светло-бежевая летняя визитка, темно-серые брюки, на штанинах зажимы, соломенная панама с черной лентой, чтобы она не слетала, спади за дырочку в полях шляпы она пристегнута английской булавкой к черной бечевке, вроде шнурков для ботинок и, привязанной к цепочке для часов, дужка которой пропущена через петлю визитки. (По крайней мере я избавлен от того стыда, который выпал на долю детей викария из Литтл-Хембери, в восьми километрах от нас. Их отца видели разъезжающим в шортах длиной до колен и тропическом шлеме, больше того, донесли об этом епископу.)
Мы переходим шоссе, потом вновь спускаемся вниз по тропинке в деревню. Я дуюсь, я отказываюсь держаться за ними, они исчезают. Я содрогаюсь при мысли, что кого-то встречу. Меня засмеют — тащу этот смехотворный зонтище. Хуже всего это — деревенские мальчишки; а худшайшее из всего, поскольку я ученик дневной приготовительной школы, расположенной у соседней деревни, — я приговорен носить форму: дурацкие серые короткие брюки, перетянутые полотняным бело-розовым поясом с защелкивающейся пряжкой, дурацкие длинные серые носки, тоже с белой и розовой полоской поверху (Боже милостивый, как я ненавижу розовый цвет и буду ненавидеть его всю жизнь), дурацкие черные башмаки, которые мне приходится ежедневно чистить самому. Дурацкие, дурацкие, дурацкие. Внутри у меня все кипит. Несчастный зонт, трепыхаясь, волочится за мной по земле, скребя наконечником по ухабистой щебенке. Я выхожу из-за поворота и вижу отца у ворот дома, принадлежащего муниципалитету, где живет тетушка Маргарет, акушерка. Продолжая разговаривать, он оборачивается и смотрит на меня. Маргарет стоит, наполовину спрятавшись за свою толстую тетку. Мне хочется быть чьим угодно ребенком, только не священника. Отец приподнимает шляпу, здороваясь с акушеркой, потом отворачивается и стоит на тропинке, поджидая меня. Я живое воплощение полного изнеможения от жары и безжалостной эксплуатации.
— Подтянись, старина.
Я ничего не отвечаю. Он всматривается в меня. Я продолжаю демонстрацию.
— Сначала дамы. Даниэл. Это — закон жизни, — говорит он.
— Мне жарко.
— Хочешь сейчас ехать?
Я отрицательно качаю головой, избегая его глаз. Поступая так (не отвечаю, не благодарю его), я нарушаю еще один закон жизни, теряя последние остатки уважения, и он знает, что я знаю об этом.
— Тогда ты будешь должен идти домой пешком и в одиночку. Меня ждет человек. — Я ничего не отвечаю. — Взять зонт?
— Я донесу.
Я ничего ему не дам, даже того, что ненавижу.
— Очень хорошо.
Он протягивает руку и ерошит мои волосы. Я отдергиваю голову. Могут увидеть люди из муниципальных домов. Я оглядываюсь, чтобы узнать, наблюдает ли кто за нами. Тут он делает нечто беспрецедентное. Он отпускает шутку.
— Я потерял сына, зато приобрел чудище.
Я наблюдаю, как он степенно удаляется. Потом отправляюсь окольным путем, волоча сквозь великолепный день свое страдание и черный зонт.
В то время, когда я жил в доме отца, викария, Торнкомб принадлежал семейству по фамилии Рид. Они принадлежали к почти исчезнувшему ныне классу — образованных йоменов. В нашем приходе насчитывалось немного людей, подобных им; множество необразованных йоменов-фермеров, с сильным акцентом и еще более сильными нарушениями грамматики. Но Риды были совсем другие люди. Хотя все они говорили с акцентом, свойственным жителям округа Саут-Гемс, артикулировали они звуки четко почти не пользуясь диалектными словами. Семья состояла из шести человек — во главе ее стоял вдовец-дед, старший церковный староста, «Старый мистер Рид», большой любимец моего отца постоянно приводившего его как пример «прирожденного джентльмена». Это снисходительное клише омерзительно, но это был действительно великолепный старик, наделенным природным достоинством и учтивостью. почти что величием. Глядя на него, можно было поверить в то, на чем держится Англия. В других местах приходилось изображать вежливость по отношению к тем, кто не соответствовал стандарту произношения; в присутствии него — присутствии патриарха — хотелось, чтобы это получалось само собой. Он никогда не был «стариной Ридом»; он заслужил свое «мистер». Лучше всего я помню его, когда он читал библейские тексты во время службы. Он наизусть знал множество великолепных отрывков из Библии, и своим глубоким голосом медленно декламировал их по памяти, не поглядывая на аналой, с той простой убежденностью, которой я никогда не слышал у моего отца. или впоследствии, если уж на то пошло, у многих несравненно более искусных актеров. Он навечно составляет исключение среди всего, что было мне когда-либо ненавистно в англиканской церкви. Он напоминал народную песню, народные стихи; голос Дрейка и Рэли. Мой отец мог быть защитником и служителем веры, старый мистер Рид был самой верой.
Когда наступила война, он был слишком стар, чтобы вести хозяйство в Торнкомбе — этим занимался его сын, который по сравнению с ним казался безличным: довольно молчаливый человек, лет пятидесяти с небольшим, тихим голосом. У него была жена и три дочери, младшая из них — та самая Нэнси, за которой мне когда-то нравилось украдкой наблюдать в воскресной школе, и которая так превосходно умела выдерживать взгляд. Две старшие, близнецы, Мэри и Луиза, стали помогать родителям управляться на ферме, как только началась война. В деревне их считали странными особами: за исключением церкви, одевались они скорее, как мужчины, чем как женщины; извечные брюки, джемпера и рубахи; две жилистые сельские труженицы-амазонки с загорелыми лицами, хотя и хрупкого сложения. Пока я не узнал их как следует, их сноровка и выдержка, да и вообще уверенный вид пугали меня — как девушки они казались мне очень непривлекательными.
Ридам принадлежало прекрасное стадо гернсейских коров, и они изготовляли лучшие в нашей округе сливки, по-прежнему делали собственный сидр, держали птицу; мать, к тому же, была изумительным пчеловодом, и мой отец не признавал никакого другого меда. Хотя ферма находилась на дальнем краю прихода, и они не принадлежали к той социальной группе, с которой мы могли бы общаться как равные, нас связывала уйма всяких дел. Во-первых, церковь — миссис Рид была, кроме того, первым лицом в Союзе матерей — а это значит, часто приходилось передавать туда разные сообщения и просьбы. Потом, во время войны, продукты… мой отец только головой качал при виде столь скандальных нарушений Священного Закона о Пайке, но по всей деревне шла тайная торговля сливками, маслом, яйцами, курами, «жирными кроликами» (мясо незаконно зарезанной свиньи). Жили мы неплохо, прибегая к нескольким источникам. Это смахивало на уплату десятины натурой, как утверждала тетя Милли. Но главным источником снабжения был для нас Торнкомб.
Я влюбился в ферму задолго до этого. Она стояла уединенно, прижавшись к крутому, поросшему лесом склону, окруженная садом в своей собственной долине и обращенная на юго-запад. Простой, побеленный дом, который отличало только одно — простое, но массивное каменное крыльцо с выбитой над ним датой: 1647. К этому крыльцу, к его простоте я привязался еще ребенком; в нем тоже была вера. И к тому, какой он внутри; здесь всегда стоял характерный девонширский запах, крепкий и духовитый; пахло старым коровьим навозом, сеном, воском; он был удобный и необычайно обжитой. Кое-что из посуды хорошего фарфора, тяжелая, старинная мебель и никакого дешевого барахла — линолеум, клеенка, — заполнившего в это время обычные фермы в нашей округе. В Торнкомбе кухня не была средоточием жизни, хотя обыкновенно они ели здесь. Вероятно, это было связано с тем, что главную роль в семье играли женщины. В те годы я там из-за этого сам себя не узнавал. Существовали классовые различия, как всегда суетилась вокруг меня миссис Рид, угощала чаем, лимонадом, а когда решили, что я достаточно взрослый, и стаканом сидра; сын священника, почетный гость; Даниэл вдруг замечал, что неестественно говорит, или вернее, это было единственное место, где его неизменно беспокоило, что он так говорит. И потом от него веяло каким-то таинственным теплом, ощущением какой-то внутренней жизни, какой-то благодати, которой нам не хватало в доме викария, хотя наш был и больше, и просторнее, да и сад наш был несравненно лучше. Отчасти это, наверно, было связано с девочками; бессознательной мечтой о сестрах, о настоящей матери вместо бедной тети Милли; отчасти — с аналогичными флюидами секса и с тем, что они жили рядом с животными, с землей, с вещественным, а не духовным миром. Я всегда с нетерпением ждал, когда меня пошлют в Торнкомб. Отец заставлял меня делить мой черный труд между всеми фермерами, которые в эти военные годы заявляли об этом во время уборки урожая, что втайне бесило меня. Первым делом я предназначался для Ридов, а потом уж для всех остальных.