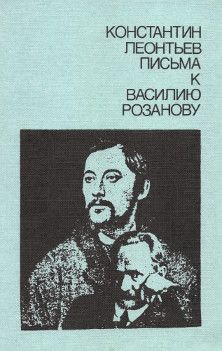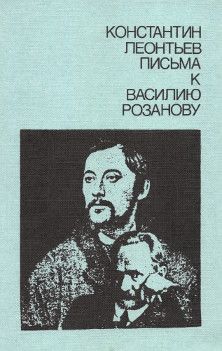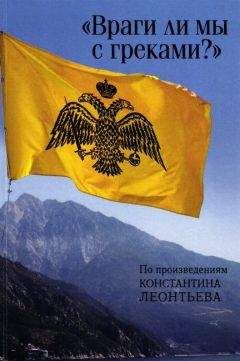Фридрих Шиллер - Разбойники
Рацман. Шельмовское желание, за которое тебя стоит повесить. Тем не менее это была уморительная штука.
Роллер. Это была истинная помощь в нужде: вам ее не оценить. Для этого надо – с петлею на шее, как я – заживо прогуляться к могиле. А эти ужасные приготовления, эти отвратительные церемонии, причем с каждым шагом, на который становят тебя дрожащие ноги, проклятая машина, на которой скоро отведут тебе квартиру, все ближе и ближе восстает перед тобою в лучах восходящего солнца! А поджидающие палачи! а ужасная музыка, которая еще до сих пор гремит в ушах моих! а карканье проголодавшихся воронов, сидевших десятками на моем полусгнившем предшественнике? Это все… все… и сверх того еще предвкушение того блаженства, которое цветет для нас на том свете. Братцы, братцы! и после всего этого вдруг лозунг свободы. Это был сладкий звук, как будто на небесной бочке лопнул невидимый обруч. Слушайте, канальи! Уверяю вас, что если м мне пришлось из раскаленной печи выпрыгнуть в холодную, как лед, воду – переход был бы слабее того, который я почувствовал на другом берегу.
Шпигельберг (громко хохоча). Бедняга! пропотел же он не на шутку. (Пьет). С счастливым возрождением!
Роллер (бросает стакан). Нет, клянусь всеми сокровищами Маммона, я не захотел бы переиспытать всего этого во второй раз. Смерть не прыжок арлекина; а предсмертные муки еще ужаснее самой смерти.
Шпигельберг. Вот она, взорванная башня… Смекаешь теперь, Рацман? – оттого-то целый час так и пахло кругом серой, как будто проветривался весь гардероб Молоха. Это была гениальная штука, атаман! Я завидую ей.
Швейцер. Если весь город мог радоваться при виде, как дорезывают нашего товарища, будто затравленного кабана, нам и подавно нечего совеститься того, что мы пожертвовали городом из любви к товарищу. К тому же нашим ребятам представлялся славный случай поживиться на счет казны. Ну, говорите же, что вы там успели подтибрить?
Один из шайки. Во время суматохи я пробрался в церковь святого Стефана и спорол бахрому с покрова алтаря. Господь Бог богат, подумал я, и может соткать золото из простой веревки.
Швейцер. И прекрасно сделал! – к чему этот вздор в церкви? Его тащат Творцу, который смеется над хламом, а люди между тем голодают. А ты, Шпангелер? – куда ты закинул сети?
Второй. Мы с Бюгелем обобрали лавку и притащили разных материй: человек на пятьдесят будет довольно.
Третий. Я спроворил двое золотых часов, да дюжину серебряных ложек.
Швейцер. Хорошо, хорошо. А мы им удрали нечто такое, чего они не потушат и в сорок дней. Чтоб справиться с огнем, им нужно будет затопить город водою. Не знаеш ли, Шуфтерле, сколько погибло народу?
Шуфтерле. Восемьдесят три человека, говорят. Одна башня перебила их человек около шестидесяти.
Моор (мрачно). Роллер, ты дорого нам обошелся!
Шуфтерле. Вот беда! Добро бы это были еще мужчины, а то по большей части грудные младенцы, золотившие простыни, сгорбленные старухи, сгонявшие с них мух, зачерствевшие лежебоки, не могшие уже более находить дверей; больные, жалобно призывавшие доктора, который важной рысью следовал за процессией. Все, у кого только были здоровые ноги, выползли посмотреть на комедию, а дома оставались только одни подонки города.
Моор. О, бедные, беспомощные созданья. Больные, говоришь ты, старики и дети?
Шуфтерле. Да, черт возьми! да няньки, да беременные женщины, которые видно побоялись, чтоб не выкинуть под самой виселицей или, заглядевшись на привлекательное зрелище, не наклеймить еще в материнском чреве виселицы на горбы своим ребятам, да бедные поэты, у которых не было башмаков, потому что единственную свою пару отдали в починку – и тому подобная сволочь, о которой и говорить-то не стоит. Проходя мимо одного домишка, я услышал писк: смотрю – и, при свете пламени, что же вижу? Ребеночек, да такой свеженький, здоровенький, лежит на полу под столом, который уже начинал загораться. «Бедный зверечек! ты озябнешь здесь», сказал я – и бросил его в огонь.
Моор. В самом деле, Шуфтерле? Так пусть же это пламя бушует в груди твоей до тех пор, пока не поседеет сама вечность! Прочь, чудовище! Не показывайся более в моей шайке! Вы ропщете? – рассуждаете? Кто смеет рассуждать, когда я приказываю? Прочь, говорю я. Между вами многие уже созрели для моего гнева. Я знаю тебя, Шпигельберг! Но я скоро явлюсь среди вас и сделаю страшную перекличку. (Все с трепетом уходят).
Моор (один, быстро ходит взад и вперед). Не внимай им, Мститель небесный! Я не виноват в этом! Виноват ли Ты, если посланный тобою мор, голод, потопы пожирают праведника вместе с злодеем?! Кто запретит пламени бушевать в благословенной жатве, когда ему назначено выжечь гнезда саранчи? Детоубийство! убийство женщин! Как тяготят меня все эти злодеяния! Они отравили мои лучшие дела. И вот стоит ребенок, пристыженный и осмеянный, перед оком Неба за то, что осмелился играть палицей Юпитера, и поборол пигмеев, когда должен был низвергнуть титанов. Нет, нет! не тебе править мстительным мечем верховного судилища. Ты пал при первой попытке. Я отказываюсь от дерзновенного плана. Пойду и скроюсь где-нибудь в трущобе, где свет дневной отпрянет навсегда от моего срама. (Хочет идти.)
Несколько разбойников, вбегая поспешно. Атаман, здесь нечисто! Целые толпы богемских драгун разъезжают в лесу.[41]
Еще разбойники. Атаман, атаман! Солдаты напали на след наш: несколько тысяч оцепило лес.
Еще разбойники. Беда! беда! Мы пойманы, переколесованы, перевешаны! Несколько тысяч гусар, драгун и егерей скачут по опушке и занимают все проходы. (Моор уходит).
Швейцер. Гримм. Pоллер. Шварц. Шуфтерле. Шпигельберг. Рацман. Толпа разбойников.
Швейцер. Ну, подняли ж мы их с пуховиков! Да радуйся же, Роллер! Мне уж давно хотелось подраться с этими дармоедами. Где атаман? Собралась ли вся шайка! Ведь у нас довольно пороху?
Рацман. Пороху-то целая пропасть; но нас всего только восемьдесят: стало быть, на одного придется их двадцать.
Швейцер. Тем лучше! Пусть их будет хоть пятьдесят против моего большего пальца. Ведь ждали ж, бестии, до тех пор, пока мы не подожгли у них перин под задницей. Братцы, братцы! это еще не велика беда. Они продают свою жизнь за десять крейцеров: мы будем драться за свои головы и свободу! Мы грянем на них потоком и разразимся над ними зарницей. Да где же, черт возьми, атаман?
Шпигельберг. Он оставляет нас в нужде. Да нельзя ли нам дать тягу?
Швейцер. Дать тягу?
Шпигельберг. Ох! зачем не остался я в Иерусалиме!
Швейцер. Чтоб тебе утопиться в грязи, поганая душенка! Среди беззащитных ты, небось, храбр, а увидел два кулака, так и труса празднуешь. Покажи себя теперь, а то зашьем тебя в свиную шкуру и затравим собаками.
Рацман. Атаман! атаман!
Моор входит.
Моор (про себя). Я допустил окружить себя со всех сторон. Мы должны теперь драться, как отчаянные. (Громко). Ребята! мы погибли, если не станем драться, как разъяренные вепри.
Швейцер. Я пальцами распорю им брюхо, так что кишки у них на аршин повылезут! Веди нас, атаман! Мы пойдем за тобой в самую пасть смерти.
Моор. Зарядить все ружья! Довольно ли у нас пороху?
Швейцер (вспрыгивая). Пороху довольно – хоть взрывай землю до луны.
Рацман. На каждого брата есть по пяти пар заряженных пистолетов, да по три ружья на придачу.
Моор. Хорошо, хорошо! Теперь пусть одна часть взлезет на деревья, или спрячется в чащу и встретит их метким огнем из засады.
Швейцер. Это по твоей части, Шпигельберг.
Моор. А мы, между тем, как фурии, нападем на их фланги.
Швейцер. А вот это по моей!
Моор. Пусть всякий из вас свищет, гаркает, стукает по лесу, чтоб число наше показалось им страшнее. Спустить; также всех собак и натравить на этих! молодцов, чтобы рассеять их и подвести под ваши выстрелы. Мы трое – Роллер, Швейцер и я – будем во время этой суматохи рубить направо и налево.
Швейцер. Славно, чудесно! Мы их так ошеломим, что они не будут знать, откуда на них сыплются оплеухи. Я, бывало, вишни изо-рта вон выстреливал. Пусть только придут. (Шуфтерле дергает Швейцера за полу; тот отводит атамана и тихо говорит с ним).
Моор. Молчи!
Швейцер. Прошу тебя…
Моор. Прочь! Благодари он собственный стыд за свое спасение. Он не должен умереть, когда я и мой Швейцер, и мой Роллер умираем. Пусть он снимает свое платье; я скажу, что он путешественник, что я его ограбил. Будь покоен, Швейцер: клянусь тебе – не нынче, так после, а он будет повешен.