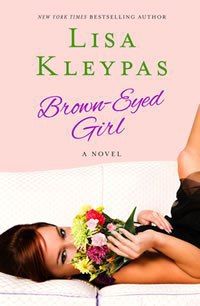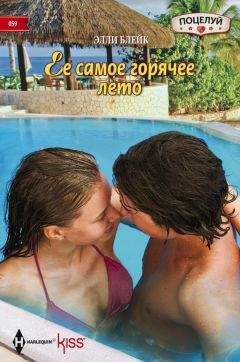Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову
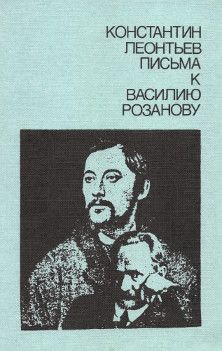
Обзор книги Константин Леонтьев - Письма к Василию Розанову
КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ. ПИСЬМА К ВАСИЛИЮ РОЗАНОВУ (Вступление, комментарии и послесловие В. В. Розанова. Вступительная статья Б. А. Филиппова)
Б. А. Филиппов. НЕПОНЯТЫЙ
К 150-летию со дня рождения Константина Леонтьева (13/25 января 1831)
Увы, все сочинения Леонтьева похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом.
Вас. Розанов
Его цитируют иной раз монархисты, почти всегда из вторых рук, тенденциозно вытаскивая нужные цитаты. Нет-нет, цитату из него встретишь даже у какого-нибудь Чалмаева из Молодой Гвардии, когда тому захочется поговорить о самобытности русского национального характера. Но народ, нация, «племя» — для Леонтьева не слишком-то явление значительное. «Племя, разумеется, — явление очень реальное. Поэтому племенные чувства и сочувствия кажутся довольно естественными и понятными. Но и в них много необдуманности, модного суеверия и фразы. Что такое племя без системы своих религиозных и государственных идей? За что его любить? За кровь? Но кровь ведь, с одной стороны, ни у кого не чиста, и Бог знает, какую кровь иногда любишь, полагая, что любишь свою близкую. И что такое чистая кровь? Бесплодие духовное! Все великие нации очень смешанной крови… Любить племя за племя — натяжка и ложь…» («Византизм и славянство»).
Кто же Леонтьев (1831–1891)? Консерватор, реакционер? Но, кажется, нет русского мыслителя и писателя более свободного, независимого во взглядах, чем он. Так его понимает и далеко не «реакционер» — Бердяев. Ницшеанец до Ницше? Но ведь он был не только христианином, но и закончил дни свои в монастыре. Христианин? — Но в письме к В. В. Розанову, уже из монастыря, в последний год своей жизни, он писал, что «и христианская проповедь, и прогресс европейский (который К. Н. Леонтьев люто ненавидел и презирал, Б.Ф.) совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь. И Церковь говорит: «конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде». Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже в ущерб любимой нами эстетике, из трансцендентального эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, мы можем противиться, ибо он одинакого вредит и христианству, и эстетике»… И, умирая монахом, на смертном одре, он бешено бушевал, кричал, что умирать не хочет — и не согласен…
Славянофил? Но Леонтьев не любил славян, не любил даже русского православия, предпочитал ему строгую красоту и красивую строгость православия греческого. Не Зосима Достоевского, а суровый аскетизм греческой Афонской горы. Христианство Толстого и Достоевского для Леонтьева — «розовое». Для него — страх Божий — начало премудрости, а не «Бог есть любовь»: «трансцендентальный эгоизм» — жажда личного спасения. Из славян, пожалуй, он уважал по-настоящему лишь поляков — за превосходную, изящную и хорошо откристаллизовавшуюся иерархически устойчивую форму их национального бытия. Русские? Русских он — уже по происхождению своему — любил. Но для него исконная русская культура — дичок славянский, аморфный, стихийный, оформившийся в мировую культуру лишь после прививки византинизма…
Пожалуй, по душе ближе были ему турки. Леонтьев — европеец-романтик — бежит из Европы обезличенных, нивеллированных «средних европейцев», из Европы «мещански-либеральной» на Восток. Ему по душе там все: пестрота жизни и нравов, красочность костюмов, даже свирепость, но своеобразное крепкодушие и отвага. Дело не в маскараде каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть» («Египетский голубь»). Не нравится ему на Востоке (в Греции, скажем) только семья прозаической прочностью и незыблемостью основ, первобытной простотой своей. Ни семейную этику, ни мораль вообще Леонтьев не слишком-то жалует. Уже монахом он противопоставляет чисто церковной, религиозной оценке, чистую этику (которую я и теперь, при всей искренности моей веры, мало уважаю)»…
Чистый эстет? Некое подобие французским и русским символистам, проповедникам, имманентности» и самоценности искусства? О, нет! Он в том же 1891 году пишет Розанову, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику в природе и в искусстве, чем эстетику в истории и вообще в жизни человеческой. Эстетика природы и эстетика искусства… никому не мешают и многих утешают. Что касается настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями и жестокостями, со столькими пороками, что нынешнее (сравнительно, конечно, с прежним) слабонервное, мало верующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже сравнительно с прежним) человечество радо-радешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности — "избави Боже!"»
В чем же это леонтьевское эстетическое понимание истории (и жизни) состоит? В замечательном письме к о. И. Фуделю Леонтьев дает следующую схему относительной применимости тех или иных критериев к истории и, вообще, жизни:
МИСТИКА (особенно положительные религии). Критерий только для единоверцев. Ибо нельзя христианин а судить и ценить по мусульмански, и наоборот.
ЭТИКА И ПОЛИТИКА Только для человека.
БИОЛОГИЯ (физиология человека, животных, растений, медицина и т. п.) Для всего органического мира.
ФИЗИКА (т. е. химия, механика и т. д.) Для всего
ЭСТЕТИКА Для всего
Итак, эстетика жизни и истории Леонтьева — это эстетика творчества самой жизни, а не эстетика отражений ее в искусстве, не эстетика лишь восприятий, пассивных, эстетских. Эстетика — в биологическом и физическом, в социальнокультурном и бытовом развитии. Распространение образованности, эгалитарный процесс — не развитие, а разлитие. «Идея же развития собственно соответствует в тех реальных, точных науках, из которых она перенесена в иерархическую область, некоему сложному процессу и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, как бы враждебному этому последнему процессу… Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление, с одной стороны, от окружающего мира, а с другой — от сходных и родственных организмов, от всех сходных и родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего, и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития… есть высшая степень сложности, объединенная неким внутренним деспотическим единством… Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением, до перехода в неорганическую "Нирвану"…» («Византизм и славянство»).
Отсюда — эгалитарный процесс — как бы оправдываемый и идеей социальной справедливости (этика), и христианством («несть еллин ни иудей») — процесс вторичного упрощения, распада исторического и социально-культурного организма, — процесс, в сущности, гниения, «смесительного упрощения». А Леонтьев за форму во всем: «Форма есть деспотизм внутренней идеи, не дающей материи разбегаться. Разрывая узы этого естественного деспотизма, явление гибнет… Растительная и животная мифология есть… наука о том, как оливка не смеет стать дубом, как дуб не смеет стать пальмой и т. д.; им с зерна предустановлено иметь такие, а не другие листья, такие, а не другие цветы и плоды… Тот, кто хочет быть истинным реалистом… должен рассматривать и общества человеческие с подобной точки зрения. Но обыкновенно делается не так. Свобода, равенство, благоденствие (особенно это благоденствие!) принимаются какими-то догматами веры, и утверждают, что это очень рационально и научно! Да кто же сказал, что это правда?» (Там же).
Совершенный и законченный детерминизм! Никакого проблеска свободы выбора. Слабое место концепции Леонтьева хорошо подметил И. С. Аксаков. В автобиографии «Моя литературная судьба» Леонтьев передает обрывок своего спора с Иваном Аксаковым: «—Потом, — продолжал Иван Сергеевич, — вы совершенно уничтожаете влияние лица, вы забываете свободную, личную деятельность человека… У вас процесс развития и вторичного упрощения есть процесс фаталистический, деспотический, неизбежный… Поэтому о чем же хлопотать? Вы — Иеремия, плачущий над развалинами… — А разве Иеремия не писал? — спросил я. Аксаков никак не ожидал этого соображения и замолчал вдруг; он забыл, что Иеремия писал». Ответ, конечно, остроумный. Но он не является ответом по существу. Ибо не снимает вопроса о трагическом детерминизме, более того, безнадежном фатализме. Ибо и сам-то Леонтьев писал о полной и неотвратимой гибели: «Верно только одно… одно только несомненно, — это то, что все здешнее должно погибнуть! И потому на что эта лихорадочная забота о земном благе грядущих поколений?» («Наши новые христиане»). Но если так, то не является ли и проповедь Леонтьева — только игрой ума, самодельной и ничего остановить не могущей? Но как по сравнению с этой мужественно-пессимистической, но воистину органической философией истории грубо мифологичен и просто глупо выглядит так называемый, научный социализм» — марксизм! И как издевался, как бы предвидя марксистов, Леонтьев над «диалектикой» марксизма, тупо останавливающейся на коммунизме, как окончательной социальной и культурноисторической формации (социалистический хилиазм): ведь дальше диалектические материалисты говорят истории: стоп! Диалектика тут кончается: ведь не могут же признать коммунисты, что и коммунизм, по их же историческим законам, неизбежно должен перейти в свою противоположность, — скажем, капитализм… Для правоверных же коммунистов тут начинается сплошная Осанна… И Леонтьев издевается: «Что такое окончательное слово на земле? Окончательное слово может быть одно: — Конец всему на земле! Прекращение истории и жизни… Иначе почему же и в каком смысле окончательное? Ведь неподвижным и неизменным не может стать человечество ни умом, ни вкусом, ни волей?» («Епископ Никанор о вреде железных дорог»).