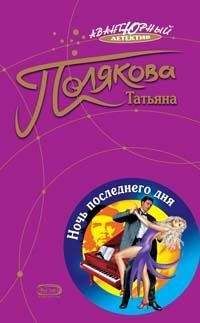Шарлотте Вайце - Письмоносец
— В какой-то момент родители исчезли из поля зрения и превратились в зыбкий туман. Мне нравился резкий свет прожекторов, я купалась в нем и сияла. У меня появился новый учитель, он скорректировал мою технику, и я обожала его до дрожи. Он сказал, что упражняться по десять часов в день для меня недостаточно. В тот же год я поступила в консерваторию. Но там я особенно ни с кем не общалась, потому что уже тогда давала по сто концертов в год.
Лэрке окидывает комнату взглядом. Хотя ставни закрыты, сквозь узкие щелки просачивается свет. Ставни похожи на плавающие в воздухе черные квадраты.
— Все началось в один день, когда я устала. Я с самого утра отрабатывала новую технику дыхания, а в тот же вечер мне предстояло впервые в жизни выступать в концертном зале — в том самом, где я мечтала выступить в детстве. Зал был набит битком, была середина лета и страшная жара. Я всегда любила далекий гул приглушенного кашля, шуршания конфетных фантиков и публики, пересаживающейся взад-вперед. Но в тот день свет прожектора изменился. Ощущение было такое, как будто потолок раскрылся и оттуда выплыло странное белое солнце. Оно жгло как раскаленные добела угли и резало глаза как ножи. И вот тут-то все и случилось, Каспар. Я упала в обморок, я попробовала вдохнуть глубоко, до самого живота, как меня учили, но упала в обморок. Очнулась я за кулисами, чужие руки расстегивали на мне платье, кто-то протягивал мне стакан воды. Я сказала, что хочу вернуться и продолжить игру. Меня пытались остановить, но я встала. Свет прожекторов обжигал, а меня встретили аплодисментами еще до того, как я успела хоть что-то сыграть. Я глубоко вдохнула воздух, но я знала, что всех четырех частей симфонии мне нипочем не одолеть. Я вперила глаза в бегущих зеленых человечков на табличках запасных выходов, а в начале третьего отделения у меня подкосились ноги, дорогая флейта покатилась на пол, и меня вынесли со сцены, а мне аплодировали стоя.
Каким-то образом мне удалось выползти обратно и забрать цветы. Я ничего не сделала до конца, а мне все равно аплодировали. Я ничего не могла понять.
— В тот вечер что-то такое было в новостях, — вспомнил Каспар, — а на следующий день девочки во дворе играли «во флейтистку, которая упала в обморок», как они это называли. Одна влезала на скамейку и нарочно падала вперед с закрытыми глазами. А кто-нибудь из остальных должен был успеть подхватить ее раньше, чем другие.
— Да уж, они там развлекались на славу, — бурчит Лэрке, стискивает зубы и отводит глаза.
— Я отменила несколько следующих концертов, но когда я вернулась на сцену, все было не так, как прежде. Я просто не могла без содрогания думать о том, что мне будут аплодировать. А мне хлопали: и когда я входила, и когда выходила, и когда мне вручали цветы, и когда падала в обморок. Откуда мне было знать: вдруг моя музыка сама по себе им не нравилась? Я попросила дирижера сказать публике, чтоб они не хлопали. Он отнесся к этому с пониманием и попросил народ сидеть тихо и, если им понравилась музыка, просто улыбаться. Но публика все равно хлопала: они подумали, что дирижер меня не любит.
Когда я после концерта сидела в гримерке и смывала грим, я поняла, что с этим уже ничего не поделаешь. Люди уж так запрограммированы. Когда отзвучала музыка, которая обнажила их чувства, они не могут вынести тишины. Ведь они все такие ранимые, как грудные дети, и незрелые, как подростки. Стоя на сцене, я открывала им свою душу, а им бы и в голову не пришло открыть мне свою. Мы с ними никогда не смогли бы быть на равных.
Лэрке приносит стакан воды, она с тревогой смотрит на Каспара, а он закрывает глаза от ее взгляда. Так лучше.
— Когда я стояла на сцене, я исчезала, — шепчет она, — сперва меня поджаривали на медленном огне прожекторов, а потом меня пожирала публика. Я сходила к психологу, и он посоветовал мне представлять, что люди в зале голые. И вот я стояла на сцене с флейтой в губах и представляла себе, что публика — один огромный розовый пузырящийся кусок мяса. Это немножко помогло, но моя фантазия понеслась без колес. По давней традиции некоторым самым преданным поклонникам, если у них были с собой розы, разрешалось после концерта зайти в гримерку. Я ничего не имела против, просто на какое-то время после выступления оставалась в гриме и в концертном платье. Но если раньше мы обсуждали музыку — теперь я стала набрасываться на них. Я занималась любовью с мужчинами и с женщинами. Потом мы никогда об этом не говорили, но мне стало чуть-чуть легче. Если на сцене все равно приходится обнажаться, почему бы не пойти до конца?
Лэрке смотрит на Каспара, он убирает подушку с лица.
— Я наняла свою старую учительницу музыки, чтобы следить за платьями, гримом и договорами. Когда я еще раз упала в обморок во время концерта, я прижалась к ней, вцепилась ногтями в ее руку и заплакала. Она и бровью не повела, хотя у нее из руки капала кровь, но посоветовала мне найти себе какое-нибудь другое занятие в жизни. Потом она собрала вещи и ушла.
В тот же вечер я сложила в чемодан одежду, украшения, флейту и ноты и взяла такси. Я всю ночь кружила по городу, пока не решила уехать в горы, где у моих родителей была избушка. Ключ лежал под стрехой, как и тогда, когда я была маленькой.
Лэрке облегченно вздыхает.
— Рано утром я лежала в высокой траве на горном пастбище, совсем одна, и слушала, как жужжат пчелы. Я постепенно съедала мамин и папин запас консервов, ходила на прогулку в горы и балансировала по краю глубоких расщелин. Я знала, что мой портрет помещен во всех глянцевых журналах, но здесь меня никто бы не нашел. Единственным, кого я встретила за три месяца, был почтальон, который принес рекламные листовки и местные газеты. А он умел держать язык за зубами.
Возле избушки паслись коровы, я сорвала им травку, и они взяли ее у меня, хотя по ту сторону изгороди росла точно такая же трава. Мне взбрело в голову поиграть для коров на флейте, и тогда я вновь обрела радость от игры. Они не хлопали, просто поднимали головы в наиболее удачных местах.
Каспар улыбается Лэрке, они оба смеются, несмотря на то, что у Каспара болит челюсть.
— Когда лето стало клониться к концу, я позвонила в ближайшую церковь и спросила пастора, не нужен ли им флейтист. Когда он услышал мое имя и сколько я за это возьму, он тут же согласился и обещал никому не разбалтывать, кто я. Хотя это была обычная церковь, я старалась, как только могла. Все прихожане повернулись ко мне и забыли о Боге и о своих ближних. Мне аплодировали, хотя в церкви аплодировать нельзя. В панике я попробовала представить себе прихожан голыми — и после переспала со священником, а он был женат на псаломщице.
Каспар смеется, а Лэрке обижена; она продолжает:
— А потом я услышала о вакансии здесь. У овец слух развит лучше, чем у коров, они услышат, если я где-нибудь сфальшивлю, поэтому перед тем, как выйти к ним, я упражняюсь. К сожалению, в основном тут только Моцарт да Вивальди. Мне самой нравится Стравинский и «Мессия», они сложнее и интереснее. Туристы, которые могли бы меня узнать, в поселок не приезжают. А самое лучшее — что я влюбилась.
Она долго улыбается Каспару, он краснеет до ушей. Каспару нравится ее согбенная фигурка, длинные темно-русые волосы с растрепанными концами, чувственные движения пальцев при рассказе. Без своих одеяний она, должно быть, красива. Лэрке просто сидит и смотрит в пустоту. Может, она ждет его? Каспар, хромая, приближается к ней, садится на подлокотник ее кресла и пытается обнять ее. Но все, что он может, — это сказать «до встречи».
— Ты, наверно, думаешь, что это Руск, — говорит она.
— Да, — шепчет Каспар.
— За кого ты меня принимаешь? — смеется она. — Ну да, я спала у Руска пару раз. Иногда мне трудно заснуть, а он как-то сказал, что я всегда могу прийти к нему, если мне нужно, чтобы кто-то держал меня в объятьях. Но теперь все кончено, он обманул мое доверие. В новогоднюю ночь он начал хватать меня за груди и трогать между ног. Мы с ним всю ночь пили шампанское, нам было так весело. Руск сильно напился, я его таким никогда не видела. Вдруг он вскочил на меня, я заехала ему локтем в живот и убежала. Но я все равно потом стала по нему скучать и решила простить. Но он опять так сделал, когда вы нашли меня в метель. А мне так нравилось лежать голой у него на руках, — но теперь все кончено.
Каспар улыбается Лэрке и осторожно обнимает ее.
— Ты больше ничего не хотела мне рассказать? — спрашивает он.
— Нет, — говорит она, высвобождается, идет к дверям и открывает их.
Каспар стоит одной ногой на пороге и прикасается к ее руке.
— Я влюблена в короля, — говорит Лэрке, — мы почти обручены, только это тайна.
— В короля! — говорит Каспар. — Да если вы поженитесь, тебе будут аплодировать, стоит тебе только выйти на балкон.
— Когда-нибудь я снова стану сильной, — говорит она, — и потом, с моей стороны было бы нехорошо выходить замуж абы за кого. Ведь я очень искусный музыкант.