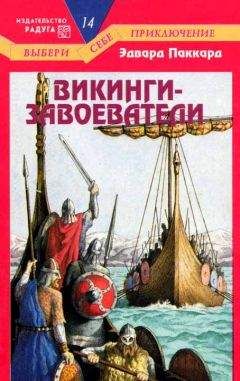Эрих Ремарк - Возвращение
- Чего ж вы сразу не сказали?
Идем за ним в другое помещение. Там развешаны по стенам новые мундиры, шинели. Живо сбросив с себя изношенное тряпье, надеваем все новое. Вилли заявляет, что ему необходимы две шинели, потому что солдатчина довела его до малокровия. Каптенармус колеблется, но Юпп берет его под руку и, отведя в сторонку, заводит разговор о суммах, отпускаемых на довольствие. Каптенармус успокаивается. Сквозь пальцы смотрит он на Вилли и Тьядена, значительно пополневших.
- Ну, ладно, - ворчит он. - Мне-то что? Некоторые и совсем не берут обмундирования: у них монеты сколько хочешь. Главное, чтобы у меня по ведомости все сходилось.
Мы расписываемся в получении вещей сполна.
- Ты, кажется, что-то говорил про курево? - обращается каптер к Вилли.
Вилли, оторопев, вытаскивает портсигар.
- И про жевательный табак? - продолжает тот.
Вилли лезет в карман куртки.
- Но водку-то ты ведь не пьешь? - осведомляется он.
- Отчего же? Пью, - невозмутимо отвечает каптенармус. - Мне даже врачи прописали. Я, видишь ли, тоже страдаю малокровием. Ты бутылочку-то свою оставь.
- Одну минутку... сейчас. - Вилли делает здоровенный глоток, чтобы спасти хоть что-нибудь. Затем вручает изумленной интендантской блохе бутылку, которая только что была непочатой. Теперь в ней осталось меньше половины.
Юпп провожает нас до ворот казармы.
- А знаете, ребята, кто сейчас здесь? - спрашивает он. - Макс Вайль! В совете солдатских депутатов!
- Самое подходящее для него дело, - говорит Козоле. - Теплое здесь у вас местечко, а?
- Да как тебе сказать? - отвечает Юпп. - Пока во всяком случае мы с Валентином устроены. Между прочим, если вам что понадобится, бесплатный проездной билет или что-нибудь в этом роде, приходите. Я сижу у самого источника всяких благ.
- Кстати, дай-ка мне билет, - прошу я. - Тогда я как-нибудь на днях съезжу к Адольфу.
Он вытаскивает книжку с бланками и отрывает листок:
- Заполни сам. Поедешь, конечно, вторым классом.
- Есть!
На улице Вилли расстегивает шинель. Под ней - вторая.
- Чем спекулянту в руки, уж лучше мне, - добродушно говорит он. - Разве за полдюжины осколков, что во мне сидят, мне не положена лишняя шинель?
Мы идем по главной улице. Козоле сообщает, что сегодня после обеда собирается чинить свою голубятню. До войны он разводил почтовых голубей и черно-белых турманов. Он хочет снова этим заняться. На фронте он всегда мечтал о голубях.
- Ну, а еще что ты собираешься делать? - спрашиваю я.
- Искать работу, - коротко говорит он. - Ведь я, братец ты мой, женат. Теперь только и знай, что добывай денег.
Со стороны Мариинской церкви затрещали вдруг выстрелы. Мы настораживаемся.
- Армейские револьверы и винтовка образца девяносто восьмого года, объявляет Вилли тоном знатока. - Если не ошибаюсь, револьверов два.
- Что бы ни было, - смеется Тьяден, размахивая полученными ботинками, по сравнению с Фландрией это мирное щебетание пташек.
Вилли останавливается перед магазином мужского платья. В витрине выставлен костюм из бумажного материала пополам с крапивным волокном. Но Вилли интересуется не костюмом. Он как зачарованный смотрит на выцветшие модные картинки, разложенные за костюмом. Восторженно указывает он на изображение элегантного господина с остроконечной бородкой, обреченного на вечную беседу с охотником.
- А знаете, ребята, что это такое?
- Ружье, - говорит Козоле, глядя на охотника.
- Дубина ты, - нетерпеливо обрывает его Вилли, - видишь фрак? Ласточкин хвост, соображаешь? Самое модное сейчас! И знаете, что мне пришло в голову? Я закажу себе такую штуку из шинели. Распороть, выкрасить в черный цвет, перешить, хлястики выбросить, словом - шик!
С каждой минутой он все больше влюбляется в свою идею. Но Карл охлаждает его пыл.
- А брюки в полоску у тебя есть? - спрашивает он резонно.
Вилли озадачен. Но только на мгновенье.
- Стащу у своего старика из шкафа, - решает он. - Да в придачу захвачу еще его белый свадебный жилет, и тогда посмотрим, что вы скажете о красавце Вилли! - Сияющими от восторга глазами он обводит всех нас по очереди. - Эх, заживем мы теперь, ребята!
Дома я отдаю матери половину полученных в казарме денег.
- Людвиг Брайер здесь; он ждет в твоей комнате, - говорит мать.
- Он, оказывается, лейтенант... - отец удивлен.
- Да, - отвечаю я. - А ты разве не знал?
У Людвига сегодня вид более свежий. Его дизентерия проходит. Он улыбается мне:
- Я хотел взять у тебя несколько книг, Эрнст.
- Пожалуйста! Выбирай любую, - говорю я.
- А тебе они разве не нужны?
Я отрицательно качаю головой:
- Пока нет. Вчера я попробовал читать. Но, знаешь, как-то странно - не могу как следует сосредоточиться: после двух-трех страниц начинаю думать о чем-нибудь другом. В голове точно плотный туман. Ты что хочешь? Беллетристику?
- Нет, - говорит Людвиг.
Он выбирает несколько книг. Я просматриваю названия.
- Что это ты, Людвиг, такие трудные вещи берешь? - спрашиваю я. - Зачем тебе это?
Он смущенно улыбается и как-то робко говорит:
- На фронте, Эрнст, я много думал, но никак не мог добраться до корня вещей. А теперь, когда война позади, мне хочется узнать уйму всякой всячины: почему это могло случиться и как происходит с людьми такая штука. Тут много вопросов. И в самих себе надо разобраться. Ведь раньше мы думали о жизни совсем по-иному. Многое, многое хотелось бы знать, Эрнст...
Указывая на отобранные им книги, я спрашиваю:
- И ты надеешься здесь найти ответ?
- Во всяком случае, попытаюсь. Я читаю теперь с утра до ночи.
Людвиг сидит у меня недолго. После его ухода я впадаю в раздумье. Что я сделал за все это время? Пристыженный, открываю первую попавшуюся книгу. Но очень скоро рука с книгой опускается, и я устремляю в окно неподвижный взгляд. Так, глядя в пустоту, я могу сидеть часами. Прежде этого не было. Я всегда знал, что мне нужно делать.
Входит мать.
- Эрнст, ты ведь пойдешь сегодня вечером к дяде Карлу? - спрашивает она.
- Пойду... Ладно! - отвечаю я, слегка раздосадованный.
- Он нередко посылал нам продукты, - осторожно говорит она.
Я киваю. Там, за окнами, спускаются сумерки. В ветвях каштана залегли голубые тени. Я поворачиваю голову.
- Вы часто бывали летом в тополевой роще, мама? - живо спрашиваю я. Там, наверное, хорошо...
- Нет, Эрнст, за весь год ни разу не собрались.
- Почему же, мама? - спрашиваю я удивленно. - Ведь раньше вы каждое воскресенье туда ездили.
- Мы, Эрнст, вообще больше не гуляли, - тихо говорит она. - После гулянья сильно есть хочется, а есть-то было нечего.
- Ах, так... - говорю я. - А у дяди Карла всего было вдоволь, а?
- Он нам иногда кое-что посылал, Эрнст.
Мне вдруг становится грустно.
- Для чего все это, в сущности, нужно было, мама? - говорю я.
Она молча гладит меня по руке:
- Для чего-нибудь, Эрнст, да нужно было. Господь бог, верно, знает.
Дядя Карл - наш знатный родственник. У него собственная вилла, и во время войны он служил в военном казначействе.
Волк сопровождает меня. Я вынужден оставить его на улице: тетка не любит собак. Звоню.
Дверь отворяет элегантный мужчина во фраке. Растерянно кланяюсь. Потом только мне приходит в голову, что это, верно, лакей. О таких вещах я за время солдатчины совершенно забыл.
Человек во фраке меряет меня взглядом с ног до головы, словно он по меньшей мере подполковник в штатском. Я улыбаюсь, но моя улыбка остается без ответа. Когда я стаскиваю с себя шинель, он поднимает руку, словно собираясь мне помочь.
- Не стоит, - говорю я, пробуя снискать его расположение, и сам вешаю свою шинелишку на вешалку, - уж я как-нибудь справлюсь. Я как-никак старый вояка!
Но он молча, с высокомерным выражением лица, снимает мою шинель и перевешивает ее на другой крючок. "Холуй", - думаю я и прохожу дальше.
Звеня шпорами, навстречу мне выходит дядя Карл. Он приветствует меня с важным видом, - ведь я всего только нижний чин. С изумлением оглядываю его блестящую парадную форму.
- Разве у вас сегодня жаркое из конины? - осведомляюсь я, пробуя сострить.
- А в чем дело? - удивленно спрашивает дядя Карл.
- Да ты вот в шпорах выходишь к обеду, - отвечаю я, смеясь.
Он бросает на меня сердитый взгляд. Сам того не желая, я, очевидно, задел его больное место. Эти тыловые жеребчики питают зачастую большое пристрастие к шпорам и саблям.
Я не успеваю объяснить, что не хотел его обидеть, как, шурша шелками, выплывает моя тетка. Она все такая же плоская, настоящая гладильная доска, и ее маленькие черные глазки все так же блестят, как начищенные медные пуговки. Забрасывая меня ворохом слов, она, не переставая, водит глазами по сторонам.
Я несколько смущен. Слишком много народа, слишком много дам, и главное - слишком много света. На фронте у нас в лучшем случае горела керосиновая лампочка. А эти люстры - они неумолимы, как око судебного исполнителя. От них никуда не спрячешься. Неловко почесываю спину.