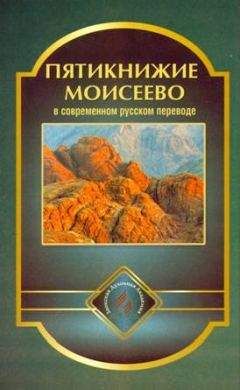Луи Куперус - Тайная сила
– Но не говори, что Нидерландская Индия тебе безразлична. Уж это-то не красивые слова: я ощущаю это сама. В этой стране наше величие – величие нас, голландцев. Только послушай, что говорят о ней иностранцы, как они восхищаются ее великолепием, нашим подходом к колонизации… Смотри, не заразись этим жалким узкоголландским духом, духом голландцев в Голландии, которые ничего не знают о нашей Индии, нередко посмеиваются над ней в своей косной, буржуазной узколобости…
– Я и не знал, что ты стала здешней патриоткой. Еще вчера тебе тут было страшно, и я защищал мою родную страну…
– О да, меня пробирает дрожь от таинственности здешних вечеров, полных угрозы, непонятно откуда идущей: это ощущение страха перед будущим, опасности для нас, для нас… Я чувствую, что я сама чужая этой стране, хотя и хочу, наоборот… Мне не хватает здесь искусства, того, на чем меня воспитали. Я не вижу здесь той изящной линии в жизни людей, на которую мне всегда указывали мои родители, оба… Но не хочу быть несправедливой. И Нидерландскую Индию, нашу колонию, я считаю великой; нас самих, в нашей колонии, я считаю великими…
– Раньше – может быть, а теперь все идет на спад, теперь какие же мы великие. А у тебя художественная натура: ты, хоть и с трудом, выискиваешь здесь, в этой стране, художественную линию. И тогда ты видишь это величие, это великолепие. Ты видишь поэзию. А проза такова: гигантская, но уже истощенная колония, которой управляют прямо из Голландии, руководствуясь одной идеей: погоней за прибылью. Реальность не в том, что на колониалистов ложится отблеск величия колонии, а в том, что колониалисты – маленькие жалкие эксплуататоры. Из страны высосаны все соки, и люди – не голландцы, транжирящие в Гааге нажитые в колонии деньги, а здешние люди, привязанные к здешней почве, униженные высокомерием властелина, который некогда породил их из собственной крови, – теперь вот-вот восстанут против унижения и высокомерия… Ты, человек искусства, чувствуешь приближение опасности, смутной, как облако в небе яванской ночью, а я вижу, как вырастает действительная опасность для Голландии если не со стороны Америки или Японии, то отсюда, прямо из здешней земли.
Она улыбнулась.
– Я люблю, когда ты так рассуждаешь, – сказала она. – Готова с тобой согласиться.
– Ах, если бы рассуждениями можно было чего-то добиться! – горько рассмеялся он, вставая. – Полчаса истекли: резидент ждет меня; он не любит ждать ни минуты. Adieu, и простименя.
– Скажи, пожалуйста, – спросила она, – я кокетлива?
– Нет, – ответил он, – ты такая, какая есть. А я не могу стать другим, я тебя люблю… Я все вытягиваю и вытягиваю свои усики, постоянно. Такова моя судьба.
– Я помогу тебе забыть меня, – сказала она с изящной убежденностью.
Он посмеялся, откланялся, ушел. Она смотрела, как он пересекает улицу, подходит к воротам парка вокруг резидентского дворца, где ему навстречу вышел смотритель…
– Вообще-то жизнь – это все-таки самообман, блуждание среди иллюзий, – думала она грустно, исполненная меланхолии. – Великая цель в масштабах всего мира или малая цель в масштабах самого себя, своего тела и души… о Боже, как же все это незначительно! И как мы все блуждаем впотьмах, ничего не понимая. И каждый из нас ищет свою маленькую цель, свою иллюзию. Счастье – это исключение, как, например, счастлива Леони ван Аудейк, живущая подобно красивому цветку, красивому зверю.
К Еве подбежал ее сынишка, хорошенький, белоголовый крепыш.
– Малыш! – размышляла она. – Кем ты станешь? Какая участь тебя ждет? Ах, быть может, ничего нового. Жизнь – это роман, который бесконечно повторяется… Ах, если так думать, то здешняя жизнь становится невыносимой!
Она обняла своего мальчика, роняя слезы на его светлые волосы.
– У ван Аудейка его округ, у меня мой кружок из… почитателей, где я царю… Франс со своей любовью… ко мне… у нас у всех свои игрушки, точно так же, как мой маленький Онно играет со своей лошадкой. Как же мы незначительны, как мы незначительны! Всю жизнь мы прикидываемся, что-то воображаем, думаем, что способны задать линию, направление, цель нашей бедной жизни, полной блужданий. О, что со мной сделалось, малыш? И, малыш, что, что ждет тебя?
Глава третья
I
В пятнадцати милях от Лабуванги и тринадцати милях от Нгадживы находилась сахарная фабрика Патьярам, принадлежавшая семейству де Люс, корни которого уходили наполовину в Европу, наполовину в Соло. Раньше де Люсы владели миллионами, в результате последнего сахарного кризиса несколько обеднели, но по-прежнему жили большим домом: множество родственников под одной крышей. В этом большом семействе, державшемся всегда вместе и состоявшем из пожилой матери и бабушки – принцессы Соло, старшего сына – директора фабрики, трех замужних дочерей с мужьями, работавшими клерками в фабричной конторе и существовавшими в тени от фабрики, троих младших сыновей, тоже работавших на фабрике, многочисленных внуков, игравших близ фабрики, и правнуков, резвящихся тут же, – в этом большом семействе соблюдались традиционные яванские обычаи, которые – раньше повсеместные – теперь соблюдаются все реже из-за все более тесных контактов с европейцами. Мать-бабушка была дочерью принца Соло. В свое время она вышла замуж за молодого, энергичного и склонного к богеме искателя приключений – француза-дворянина с острова Маврикия, Фердинанда де Люса, который после нескольких лет бродяжничества и поисков своего места под солнцем прибыл на корабле в качестве стюарда в Нидерландскую Индию и в результате всевозможных жизненных перипетий оказался в Соло, где прославился умением готовить блюдо из помидоров и другое – из фаршированных перцев! Благодаря своим рецептам Фердинанд де Люс получил доступ к принцу Соло, на чьей дочери позднее женился, и даже к старому сусухунану[39]. После женитьбы он стал землевладельцем и, в соответствии с адатом[40] тех мест, вассалом сусухунана, для которого ежедневно посылал на дворцовую кухню рис и фрукты. Потом Фердинанд де Люс перешел на производство сахара, предвидя миллионы, которые приготовила для него благосклонная к нему судьба. Он умер еще до разразившегося сахарного кризиса, в богатстве и почете.
К старой бабушке, ничем уже не напоминающей юную принцессу, на которой некогда ради карьеры женился Фердинанд де Люс, все работники фабрики и яванская прислуга обращались с чрезвычайным почтением и титуловали раден-айу пангеран. Она не знала ни слова по-голландски. Сморщенная, как сухое яблочко, с замутненными глазами и увядшим ртом, привыкшим пережевывать бетель, она спокойно доживала свои последние годы, одетая неизменно в темный шелковый кабай с драгоценными застежками у шеи и на узких рукавах. Перед ее мысленным взором стояло видение былого величия в отцовском дворце, который она покинула ради любви к французскому дворянину-повару, подкупившему ее отца своими рецептами. В ее глохнущих ушах постоянно стоял грохот центрифуг, напоминавший шум пароходных винтов, не прекращавшийся по несколько месяцев в период измельчения сахарного тростника; а вокруг нее были ее дети, внуки, правнуки; работники, обращаясь к ее сыновьям и дочерям, называли их раден и раден-айенг, и вся семья еще была окружена слабым ореолом княжеского происхождения. Старшая дочь была замужем за чистокровным светловолосым голландцем, сын, второй ребенок в семье, женился на армянской девушке, две другие дочери были замужем за полуевропейцами-полуяванцами, которые оба были темнокожими, а их дети, все темнокожие, тоже женились кто на ком и нарожали детей, перемешиваясь со светловолосыми родственниками старшей дочери. Но гордостью всей семьи был младший сын и брат Адриен, или Адди, ухаживавший за Додди ван Аудейк и постоянно проводивший время в Лабуванги, несмотря на напряженный период переработки сахарного тростника.
В этой семье сохранялись традиции, повсеместно исчезнувшие, традиции, о которых в других яванских семьях остались только далекие воспоминания. Здесь во дворе и на задней галерее можно было увидеть множество занятых работой бабу[41]: одна растирает рис в муку, другая готовит благовония, третья толчет самбал, и все с поволокой во взгляде, с гибкими, ловкими пальцами. Череде блюд, подаваемых в этом доме за рисовым столом, не было конца: вереница слуг – один за другим – торжественно подносили всё новые и новые овощи, всё новые и новые соусы, всё новые и новые блюда из курицы, в то время как за спиной у дам несколько сидящих на пятках бабу растирали в керамических ступках самбал, на разные вкусы и пожелания избалованных ртов. Здесь было еще принято, чтобы во время скачек в Нгадживе, на которых присутствовала вся семья, за спиной у каждой дамы стояло по собственной бабу – неспешной, гибкой, торжественной; одна бабу – с баночкой рисовой пудры, другая – с коробочкой мятных пастилок, с биноклем, с веером, с флаконом духов, точно придворная свита, несущая знаки отличия. Здесь еще существовало старинное гостеприимство, комнаты для гостей были открыты для всех, кто постучится в дверь, здесь можно было гостить, сколько душе угодно, и никто не спрашивал ни о цели путешествия, ни о дате отъезда. Здесь царили великое простодушие, всеобъемлющая сердечность без задней мысли, врожденная – рядом с безграничной скукой и вялостью: мыслей никаких, слов мало, материальная жизнь в изобилии. Здесь дни напролет разносили холодные напитки, печенье и фруктовый салат, причем готовить салат и печенье было поручено трем специальным бабу. На дворе держали животных: там была клетка, полная обезьян, несколько попугаев, собаки, кошки, ручные белки и канчиль[42]: изысканный карликовый оленёк, свободно ходивший повсюду.