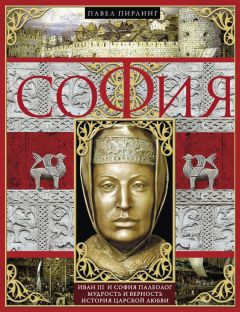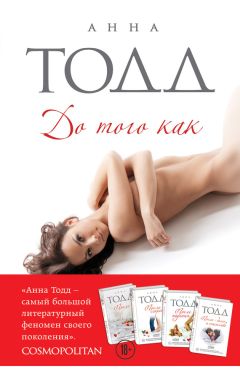Владислав Вишневский - Кирза и лира
— Что ты говоришь, какая стар…
— Не спорь, не спорь, Пашенька. — Прикрывая мой рот ладошкой, перебивает Оля. — Мы, женщины, быстро стареем, раньше вас, мужчин, стареем. С этим ничего не поделаешь. Не мы, так природа распорядилась. Я вообще благодарна тебе, благодарна Богу, что он дал мне пусть чуть-чуть, совсем немного в жизни светлой любви… Кусочек счастья, но дал. Дал, понимаешь! Спасибо тебе, солнышко моё. И не мучь себя, не терзайся… Мне было очень хорошо с тобой, как никогда в жизни… и тебе было хорошо, я знаю. Пусть так и останется в нашей памяти. Запомни меня такой, какой видишь сейчас… Хорошо? Видишь, я улыбаюсь, я не плачу, я рада за тебя, за себя… Ну, улыбнись, пожалуйста, улыбнись. Ой, смотри, звезда упала… вон, там. А я успела загадать, успела-успела!.. У тебя всё будет хорошо. Всё-всё в жизни будет хорошо, я знаю.
— И у тебя.
— И у меня тоже…
Чуть помолчав, с трудом сдерживая волнение, спросила: «Паша, а можно я не поеду с тобой в аэропорт… провожать. Боюсь, что не смогу… не выдержу там. Ты простишь меня, ладно? Я отсюда, из окна…»
Генку мы с Артуром проводили в одиннадцать двадцать утра. Улетал он рейсом на Москву. Первым из нас улетал, как флагман. Выглядел счастливым, балаболил, громко хохотал, смеялся. Полетел Генка, конечно, в парадной, концертной форме, как на всесоюзный слёт лучших дембелей страны. Грудь его украшала куча ярких значков. Кроме двух очень красивых, его личных, настоящих, «лауреатских», горделивым огнём горели, естественно, комсомольский значок, значок «Отличника боевой и политической подготовки», значок «Военного специалиста первого класса», «Воина спортсмена первого разряда», непременный гвардейский значок, и одна юбилейная медаль, в честь победы Советских войск над фашистской Германией. Вот тут, граждане-господа-товарищи, не нужно смеяться, не надо! Нашему призыву тогда всем такие выдали. Правда, моя-то медаль потерялась в первом же моём увольнении. Увы, вот! К сожалению.
Пришел я в гости с ней, с медалью красивой, в общагу к девчонкам, похвастать хотел. Как и весь наш «омедаленный» призыв: Генка, Валька, Артур… Шинель снял, а там, на груди, одна только верхняя часть от той медальки одиноко и висит, ленточкой своей зеленой красуется. А кругленький диск, желтенький такой, как золотой, с рисунком, надписью и цифрами, отцепился где-то, потерялся он, пока я шёл. Ёшкин кот, такой конфуз вышел. Так обидно было, верите, нет, как будто меня обокрали. Ага! То ли быстро я шел, торопился показать или звено цепочки было слабое, но потерялась медалька. Потерялась моя красавица. Что интересно, потерялась в полку только у меня одного, ни у кого больше, а запасных нигде и нету, я выяснял. Не предусмотрено. Так что, покрасоваться и не успел, даже сфотографироваться не довелось.
Что расстраиваться?! Это было давно, я это пережил. А что она была — могу удостоверение показать, там она, медаль эта, полностью прорисована. Покажу-покажу, Генку вот только проводим…
А красавец писаный наш, Генаша, с гроздью высыпавших на радостях хотенчиков на лице, в хромовых, гармошкой, офицерских сапогах, в офицерской же фуражке со смело срезанным, ушитым козырьком, с тяжеленным дорожным чемоданом, огромных размеров, цвёл от дембельского счастья, как девка на выданье. «Ага! Приданое там. — Кивая на чемодан, хитро подмигивая нам, сообщал Генка на полном серьёзе всем окружающим, особенно разным молоденьким девушкам. — Одних медалей, за боевые секретные заслуги, шестнадцать килограммов. Я ж говорю, полный чемодан, ага!» Мы-то хорошо знали, что там за приданое такое. Там его концертный реквизит еле уместился, буграми еще туда-сюда выпирает. «Так прямо и заявлюсь в цирковое училище. Пойдет, ребята, а? — В который уже раз, волнуясь, спрашивал Генка, показывая свою воинственную, но артистическую стать. «Ещё как пойдет!» — уверял я. «Не пойдет, Генаха, звони, прилетим, кому надо глаза там протрем. Увидят! — Конкретно грозит Артур, показывая кулак с молодой, созревающий арбуз. — Ага, сразу увидят, как мозги-то прочистим. Да, Пашка!»
Пассажиры его рейса уже давно прошли регистрацию и собрались в душном и тесном, каком-то, говорят, «накопителе-накипителе». Там нервы пассажирам, наверное, накаливают до кипения, чтоб, значит, жизнь перед взлетом мёдом не казалась. Уже два или три раза на весь вокзал, громко, с эхом, мелодичным женским голоском объявили: «Пассажира Иванова, вылетающего до Москвы, приглашаем пройти на посадку…» А мы не могли расстаться. Хотя, вроде, за руки и не держались, а вот…
— Как устроишься, Генка, сразу сообщи. И мне, и Пашке. Понял?
— Да, конечно. И вы тоже… как, что там у вас. Если, что надо, ребята, пишите, звоните, я сразу…
«Закончилась регистрация рейса…»
— В общем, ребята, не теряемся. Как договаривались, ладно?
— Конечно.
— Смотри, Генка, не торопись там жениться…
— Нет, пока училище не закончу, свой номер не сделаю, денег не накоплю, ни каких женитьб. Слово, чуваки.
«Пассажир Иванов, вылетающий рейсом до Москвы, просьба пройти на посадку…»
— Ну, задолбали девки парня! Придется идти. Ладно, ребята — аплодисменты! — ап, мой выход. Полетел я!
— Счастливого взлета и посадки, Генаха.
— Давай, Генка!..
— Он сказал, поехали!.. — Пропел Генка.
— Да-да, маши там рукой, «Гагарин»…
Мы стоим в центре зала, обнявшись, уткнувшись лбами, прячем слёзы. Столько лет вместе, и каких лет, ёшь твою в корень! Эх!..
— Главное, ребята, сердцем не стареть…
— Не черстветь…
— Не забывать.
— Ну, от винта?
— От винта!
— Пиши, Генка, не ленись!
— Вы тоже!
— До встречи!
— До скорой встречи, ребята! Помните, жизнь наша только начинается!..
— Да-да! До скорой…
Выйдя на пандус, долго ещё стоим с Артуром. Ждём, провожая, пока самолет с Генкой не поднялся в воздух, быстро уменьшаясь в размерах, не растаял в радужной полудённой дымке. С грустью потом поехали в город.
Какое хреноевое настроение!.. О-о-о!..
Следующим улетаю я, в восемнадцать тридцать. Первым-то из нас, еще утром — аж в шесть двадцать! — должен был улететь Ара, но его рейс отложен на два дня — «на острове хреновая пого-ода…» «Низкая облачность, потому что», сумеречно сказали в справочном окне, сумеречно же отворачиваясь. Значит, естественно, туман. И затяжные дожди… дожди… дожди… Обычное, говорят, для Сахалина дело, тоже — грустное. Грустное-грустное!
А теперь и мой рейс.
Артур едва успел на такси прискакать к моей регистрации, в общаге задержался. Приехал, как говорится, уже и нос в табаке, подшофе и с девчонками. Ленка вначале вроде фыркала, обижалась, что я забыл её, не появляюсь и всё такое прочее, а потом, когда уже пошел на посадку, разревелась: Санечка пиши, приезжай… Что-то у меня в душе царапнуло, но сердце моё было там, с Олей. Около неё. Я знал, она стоит сейчас у окна, ждёт звук пролетающего самолета. Знает, когда это будет. Смотрит сейчас вверх.
Уткнувшись в стекло иллюминатора, ищу глазами, как ориентир, квадрат плаца комендатуры и крышу её дома. Олиного дома! Оля! Оленька!! Вначале взлёта всё хорошо просматривалось там, внизу, достаточно чётко и узнаваемо. Я был уверен, что обязательно увижу, должен увидеть её дом, её руку, машущую мне из окна… Сейчас… Вот сейчас… Сейчас, где-то… Нетерпеливо бегу глазами вперёд по курсу самолёта — скорей, скорей!.. По ломаным линиям улиц, домов — дальше, дальше!.. Ищу контуры того плаца, её дома… Он должен быть где-то здесь, внизу… Он прячется там, среди зеленой дымки деревьев, в странно запутанных направлениях и тупиках, в которые нанизаны большие и малые, длинные и короткие, как сложное письмо азбуки Морзе, почти одинаковые коробочки зданий и домов, всё в разноцветных прямоугольниках крыш, разделённых сложным, непонятным языком узеньких дорог-тропиночек… Сейчас, сейчас… Вот? Здесь? Нет-нет, не то… Так, так, дальше… А это, что такое? Что-то очень уж большой квадрат для плаца, с пятнами клумб в центре. Так это же… городская центральная площадь с фонтаном и цветниками. Центр города под нами. Уже площадь! Уууу! Мы далеко впереди, значит… пролетели. Очень быстро всё промелькнуло внизу, очень. Эх!.. Оленька!.. Как же так… О-о-о!..
Перегрузки от резкого набора высоты вдавливают в сиденье, звук двигателей давит на уши, закладывает их, самолет натужно ревёт… Невидимые нити, соединяющие меня с Олей, сейчас не дают ему легко подняться вверх, держат, сдерживают самолет, заставляя двигатели вновь и вновь напрягаться. Крепкие нити держат его, меня, не отпускают. Да и меня ли одного.
Нет, не поймал я взглядом такой знакомый и близкий мне квадрат плаца, там, внизу, не увидел руку. Всё промелькнуло как в калейдоскопе, смазав затем, стерев, быстро уменьшающуюся городскую топографию плотной тряпкой облаков, закрыл от глаз их серой шторкой.
Самолет круто шёл вверх.