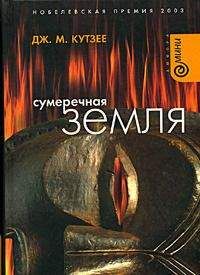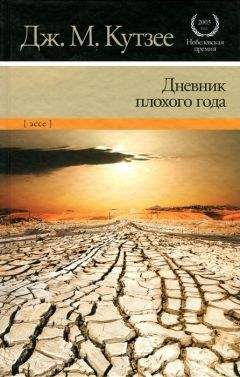Дж Кутзее - Осень в Петербурге
Почему именно я? - торопливо шагая, думает он. Почему я должен волочь на себе все тяготы мира? Что до Павла, то если он ныне лишился всего, так пусть хоть смерть его останется с ним, а не будет отобрана у него и обращена отцом его в орудие собственного обновления.
Нет, не так. Подобные доводы - лицемерные, жалкие - не прельщают его и на миг. Смерть Павла не Павлу принадлежит - это всего лишь словесный выверт. Покуда он здесь, смерть Павла - его смерть. Куда бы он ни пошел, он понесет Павла с собой, точно посиневшего от стужи малютку ("Кто малютку обогреет?" едва ли не слышит он невесть откуда взявшиеся незатейливые слова, произнесенные прямо в его голове по-крестьянски напевным голосом).
Павел не заговорит с ним, не подскажет, что делать. "Возьми одного из малых сих и опекай его" - если б он знал, что это сказано Павлом, он подчинился бы беспрекословно. Но это не им сказано. "Один из малых сих" - кто это? Брошенная на холоде собака? Кого он должен освободить и взять к себе, и кормить, и опекать - собаку или ютящегося под мостом грязного, пьяного нищего в изодранном платье? Чувство страшной безысходности овладевает им, и хоть оно как-то связано - неведомо как - с тем, что он не имеет понятия, который теперь час, коренной основой этого чувства является становящаяся все более определенной уверенность, что никогда больше не выйдет он ночью на собачий призыв, что возможность оставить себя такого, какой он есть, позади и стать тем, кем он мог бы стать, для него миновала. Я это я, безнадежно думает он, я прикован к себе пожизненно. И что бы там ни вспрянуло, устремляясь ко мне, я оказался того недостоин, и вот оно у меня отнято.
И все-таки, даже закрывая за собою дверь, он сознает, что у него еще есть возможность вернуться в проулок, отвязать собаку, и привести ее в подъезд шестьдесят третьего нумера, и сделать ей лежанку под лестницей, хоть, впрочем, он знает и то, что, если он приведет собаку сюда, она захочет последовать за ним и дальше, а если он снова привяжет ее, то лай и скулеж перебудят весь дом. "Это не сын мой, всего лишь собака, - твердит он себе, - что мне до нее?" Но и на это он знает ответ: Павел не будет спасен, пока он не отвяжет собаку и не приведет ее в свою постель, пока не уложит в нее одного из "малых сих" нищего, да и нищенку в придачу и многих иных, ему в эту минуту неведомых, хоть и тогда полной уверенности он не получит.
Он издает громкий стон, стон отчаяния. "Что же мне делать?" - спрашивает он. Если бы только я мог заглянуть в свою душу, возможно, мне было б дано узнать ответ? Но он не с душой своей утратил всякую связь, а с истиной. Или изнанка той же мысли - связь утрачена вовсе не с истиной, напротив, истина изливается на него водопадом, безудержно, и будет изливаться, пока он в ней не утонет. А следом он думает (выворачивая мысль наизнанку, выворачивая уже вывернутую: вот на какие иезуитские фокусы приходится ныне полагаться, чтобы хоть что-то додумать до конца): захлебнуться под водопадом, быть может, мне это и требуется? Все больше воды, все выше разлив, все большая глубина.
Стоя посередине покрытой снегом улицы, он подносит к лицу холодные, пахнущие собакой ладони, прикасается к холодным слезам на щеках, пробует их на вкус. Соль, а вот кому соли? Очень ему сдается, что никакой собаки он не спасет, ни в эту ночь, ни в следующую, если следующая когда-нибудь наступит. Он ожидает знамения и готов побиться об заклад (выражения поблагороднее, к которому он решился бы прибегнуть, не существует), что собака таковым не является, никакое она не знамение, просто собака, одна из многих воющих ночами собак. Впрочем, сознает он и то, что, пока он будет вилять и лукавить, пытаясь провести различение между вещами, каковые суть просто вещи, и теми, в которых таятся знамения, спасения ему не видать. Что в самой его логике и кроется причина его поражения, что, ощущая ее железную твердость, он забредает в тупик, будто та же собака, ломающая зубы о цепь, на которой сидит. Остерегись, однако, остерегись, говорит он себе, собака на цепи, потом вторая собака ничего они сами собою не обозначают, нет в них никаких прозрений, одно лишь животное сходство.
Стиснув в карманах кулаки, склонив голову, он стоит посреди улицы на одеревеневших ногах, ощущая, как обращается в лед собачья слюна на его бороде.
Возможно ли, что в эту минуту кто-то прячется в темном подъезде шестьдесят третьего нумера, наблюдая за ним? Различить соглядатая ему не по силам, да и пятно посветлее, принимаемое им за лицо, может быть всего лишь пятном на стене. Однако чем дольше он всматривается, тем с пущей, кажется, пристальностию всматривается в него это лицо. Взаправду лицо? В его воображении и так уж не протолкнешься от бородатых мужчин со сверкающими глазами, таящихся по темным проходам. И все-таки, когда он вступает в непроглядный мрак лестницы, ощущение чужого присутствия становится столь отчетливым, что дрожь пробегает по спине его. Он замирает на месте, задерживает дыхание, вслушивается. Потом зажигает спичку.
В углу скрючился, перемигивая свет, человек. И хоть голова и рот его обмотаны нынче шерстяным шарфом, а плечи покрывает одеяло, он узнает нищего, с которым давеча говорил на паперти.
- Кто вы? - надтреснутым голосом спрашивает он. - Почему не оставляете меня в покое?
Спичка гаснет. Он зажигает другую.
Мужчина неуступчиво качает головой. Рука выползает из-под одеяла, оттягивает шарф ото рта.
- Не вам мне приказывать, - говорит он. Воздух наполняется смрадом гниющей рыбы.
Гаснет и эта спичка. Он начинает подниматься по лестнице. Однако в голову назойливо лезет парадокс: "Жди того, кого не ждешь". Превосходно; но следует ли ему теперь обходиться со всяким нищим как с блудным сыном - прижимать к груди, вводить в дом, устраивать пир? Да, именно так и сказал бы Паскаль: ставь на все, на каждого нищего, на каждого шелудивого пса, только так ты будешь уверен, что Единый, истинный сын, тать в нощи, не ускользнет из сети твоей. А Ирод поддакнул бы для верности: вырезать всех детей без изъятия.
Ставить на все номера - разве это игра? Без риска, без подчинения голосу, доносящемуся откуда-то сквозь стук падающих костей, что божественного останется в ней? Разумеется, Богу это известно, Он не оставит милостию Своей прирожденного игрока! И, разумеется, в жене, когда муж ее опускается перед ней на колени и кается в проигрыше последнего их рубля, и бьет себя в грудь, и лобзает подол ее платья, в жене, которая поднимает его, и утирает ему слезы, и, не говоря ни слова, выходит, чтобы заложить обручальное кольцо свое, и возвращается с деньгами ("Вот!"), дабы муж мог вернуться в игорный дом и сделать последнюю ставку, которая все искупит; разумеется, в этой женщине присутствует божественное начало, в женщине, ставящей на мужчину, у которого ничего не осталось, в женщине, которая, даже когда проиграно и заложенное ею кольцо, снова выходит в ночь и возвращается с деньгами для новой ставки!
А та женщина наверху, женщина, чье даже имя он, сдается, на минуту забыл, которую он даже путает временами с Gna dige Frau, их дрезденской квартирной хозяйкой, - в ней тоже присутствует это начало? Он ничего не знает о ней, кроме важнейшей, самой сокровенной из тайн - того, как она отдается. В состоянии ли мужчина понять по тому, как отдалась ему женщина, как отдастся она богу случая? Есть ли в ней этот порыв, порыв, которому все равно, куда он ведет - к наслаждению или к боли, - который пользуется чувственным телом лишь потому, что не можем же мы жить бестелесно? Готова ль она к близости, при которой тела втискиваются друг в друга, в конце концов продираясь во тьму, где ничего уже невозможно расслышать, кроме хлопанья простыней, схожего с хлопаньем крыл?
Воспоминания о проведенных с нею ночах наплывают в такой неожиданной полноте, что все перепутавшееся в нем распрямляется, указуя, точно стрелой, на нее. Вожделение во всей его роскоши сотрясает его. Она, думает он, она единственная, кого я желаю. А потому...
А потому он, улыбнувшись себе самому, поспешно сходит по лестнице и ощупью пробирается в угол, в котором свил себе гнездышко бродяга, наемный доглядчик, шпион.
- Идемте, - говорит он в темноту, - у меня найдется для вас постель.
- Я на посту, а поста покидать не положено-с, - с насмешливым вызовом отвечает бродяга.
Однако теперешнее его настроение трудно испортить.
- Тот, кого вы поджидаете, придет и на третий этаж, уверяю вас. Постучится в дверь, и будет терпеливо ждать, и ни за что не уйдет.
Долгое время слышится какая-то возня, шуршанье бумаги.
- А свету у вас больше нет? - спрашивает бродяга.
Он зажигает еще одну спичку. Бродяга торопливо упихивает свое имущество в мешок и встает.
Спотыкаясь во тьме, будто двое пьянчужек, они взбираются по лестнице. У двери своей комнаты он шепчет бродяге, чтобы тот не шумел, и берет его за руку. Рука неприятно пухлая.
Оказавшись в комнате, он зажигает лампу. Сказать о возрасте незнакомца что-либо определенное трудно. Глаза у него молодые, но в редких рыжеватых волосах и веснушках на черепе чудится что-то усталое, пожившее, да и в манере держать себя присутствует изношенность, порожденная унижениями и годами.