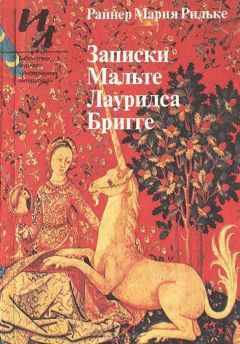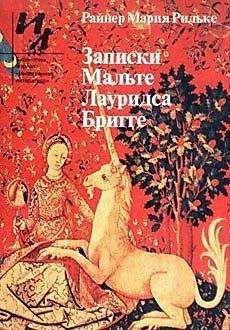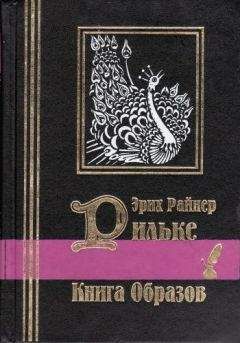Стефан Хвин - Ханеман
Улица, по которой они шли, называлась Кронпринценаллее, - деревянная будка трамвайной остановки пугала эмалированной табличкой с готической надписью. Пути утопали в снегу, надо было обходить свалившиеся на рельсы столбы, потом дорогу преградил сгоревший трамвай, они спотыкались на покрытых ледяным наростом шпалах. Город открывался перед ними, как морозный узор на стекле. Островерхая колокольня костела, кирпичная заводская труба, вереница заиндевелых тополей. Наверху, над Пелонкерштрассе, среди лип, испятнанных гнездами омелы, кружили стаи галок. Беззвучное хлопанье крыльев, холодное поблескивание мглы. Все это немного напугало Маму. Но Отец уже не хотел никуда сворачивать. Сейчас? Какой смысл! С юга квартал опоясывали холмы, темная зелень соснового леса, перемежающаяся серостью буковых стволов, и этот вид, панорама холмов, тянущихся длинной неторопливой грядой за Пелонкерштрассе, от Лангфура в сторону Гдыни, вероятно, все решила. Достаточно было взглянуть на эти холмы, чтобы дрогнувшее сердце подсказало, как красиво они расцветут весной.
Отец шагал все увереннее, не сомневаясь, что наконец они попали куда надо, и, глядя то направо - на белые поля аэродрома с темной каймой соснового лесочка в Бжезно, то налево - на липы Пелонкерштрассе, за которыми виднелись пологие буковые холмы, говорил Маме, что, пожалуй, стоит задержаться здесь на подольше, а может быть навсегда, - нет, этого он пока еще не сказал, предпочитая, чтобы время, которое было у них впереди, само предложило свободный выбор. А я шел с ними, спящий в теплом водоеме у Мамы под сердцем головой вниз - кулачок под подбородком, ножки смешно поджаты, - опутанный веревочками жил, соединявших меня с ее телом. А поскольку я шел с ними, Маме приходилось то и дело останавливаться, чтобы перевести дух, ведь бугорок у нее под пальто, бугорок, внутри которого я покачивался в такт ее шагам, был, вероятно, не менее тяжел, чем коричневый чемодан, который Отец нес в левой руке, правой поддерживая Маму, чтобы ей было легче идти.
И так они брели по рассыпчатому снегу, который пел, когда нога ступала на покрытый ледяной коростой островок, - Мама всякий раз хватала Отца за локоть, чтобы не упасть на проглядывающем из-под снежной пыли катке, - пока не дошли до первых домов. Теперь из-за железных оград, в просветы между стволами сосен, елей и берез, в щели приоткрытых ворот и калиток с готической цифрой, из-за густых зарослей плюща и из-под навесов дикого винограда они заглядывали в сады, где стояли небольшие, в три окна, виллы, похожие на дачные домики на берегу Ванзее, приземистые каменные особняки с цветными стеклышками в чердачном окошке, роскошные белые строения с застекленными верандами...
А дома - брошенные теми, кто ушел, сгорел, утонул, - мостовые, дворы, маленькие площади с огромным каштаном посередине, где снег был чистый, не тронутый ни единым следом, - все это дремало в тишине морозного утра. Район неторопливо раскрывал свои секреты, запрятанные за грабовые живые изгороди и шпалеры туй. В центре, возле здания вокзала, с которого еще не исчезли таблички с черной надписью "Данциг", зеленые грузовики пробирались сквозь заснеженные развалины, вспугивая стаи ворон, расклевывающих туши убитых коней, мужчины в суконных шинелях и солдатских куртках, с холщовыми мешками на плече, с фанерными чемоданами, со свертками, запеленутыми в брезент, сновали среди уцелевших домов, но здесь, на самой окраине города (поскольку на другой стороне Пелонкерштрассе был уже только лес, тянувшийся до Жукова, Мигова и Кокошек), здесь, в стороне от главной артерии - Грюнвальдской улицы, по которой поминутно проезжали в сторону Гдыни тяжелые машины с выцветшими тентами, запряженные лошадьми полевые кухни, заляпанные известкой танки с повернутыми назад бронебашнями, - здесь еще было пусто, эту часть города пока еще обошел стороной текущий на запад людской поток, и Маме с Отцом ничто не мешало выбирать дом, в котором мне предстояло родиться.
И они переходили от ворот к воротам, останавливались под навесом дикого винограда перед калиткой с номером 6 или 14, откуда дорожка вела прямо к темной вилле с круглой мансардой, но когда Отец, поправляя на плече рюкзак, уже собирался перешагнуть каменный порог, Мама удерживала его за рукав: "Погоди, посмотрим дальше", - и они шли дальше, на другую сторону улицы, оставляя в нетронутой белизне глубокие следы. Отряхивали с ног снег, Отец открывал калитку в заборе из деревянного штакетника с прорезями в форме перевернутого сердечка, всполошившаяся туча свиристелей и снегирей, клюющих красные ягоды, срывалась с колючих кустов; задрав головы, они смотрели на крышу, поскольку Отец считал, что крыша всего важнее (поэтому он недоверчиво разглядывал седлообразные черепицы, на которых в тех местах, где снег сполз в водосточную трубу, чернели пятна мха; он искал железную, а еще лучше медную крышу). Но напрасно дом, перед которым они остановились, выставлял на солнышко гипсовую лепнину, кокетливо похвалялся головками алебастровых ангелов, радовал глаз игрой разноцветных стеклышек в круглом окне. Мама, едва вошла в парадное, отделанное синеватым, под мрамор, алебастром, тут же попятилась, сама не зная почему... На медной табличке возле надписи "Briefe" поблескивали наклонные буковки: "Эрих Шульц", "Вольфганг Биренштайн", "Иоганн Пельц". "Сюда?" спросил Отец, когда, свернув за угол и миновав шпалеру туй возде железной ограды, они остановились перед домом из обливных кирпичиков - красных и оливковых. Мама на всю жизнь запомнила ту минуту. Дом отнюдь не был самым красивым, он не обладал легкостью белых вилл с застекленной верандой, но его крутая, прочно сидящая на каменном карнизе крыша, видно, показалась Отцу надежной: он поставил чемодан на цементный парапет газона, столкнув с него локтем снежную шапку, сунул руки в карманы и медленно обогнул красный кирпичный фасад, на котором поблескивали темные окна в резных рамах. И еще эта башенка, прилепившаяся к левой стене! Лестничная клетка? Да, лестничная клетка, и, видно, это и понравилось Маме: отдельный вход, обособленность от других квартир, от чужих шагов. Башенка торчала над крышей, не слишком высоко, но уж очень красиво она венчала контур дома железным балкончиком, так что, возможно, именно это все и решило - ребяческое желание забыть о том страшном, что им довелось пережить, эфемерный соблазн, подсказанный и подкрепленный силуэтом дома; и обоим одновременно - о самом доме они еще не успели подумать - захотелось подняться наверх, потому что оттуда, с балкончика, наверное, можно увидеть весь район и аэродром за Кронпринценаллее, и лес, и море...
И, подхватив чемодан, Отец вошел в парадное, а за ним и Мама, и им сразу понравилось то, что они увидели за темной дверью с матовым окошком, перечеркнутым решеткой в форме переплетенных листьев аира. Свет врывался сюда радужным лучиком через стеклянный треугольник с готической цифрой 17. По зеленым изразцам проплыли бледные отражения, в середине винтовая лестница, латунные перила, заканчивающиеся похожей на ракушку загогулиной, Мама сразу положила руку на эту позолоченную тысячами прикосновений латунь, проверяя, удобно ли ладони, не высоковаты ли перила и каково будет ходить вверх-вниз каждый день.
А перила были в самый раз, не слишком высокие, не слишком низкие, и они стали подниматься по ступенькам, окованным золотистыми, стершимися посередине латунными планками, - Отец в черных шнурованных башмаках с барашковой опушкой, Мама в лакированных лыжных ботинках с никелированными крючками для шнурков, а лестница тихонечко заскрипела. Салатного цвета панель превосходно имитировала величественный мрамор. Мама провела пальцами по выкрашенной масляной краской стене с бордюром из колосков и цветов, похожих на васильки, а Отец, увидев этот трогательный жест узнавания знакомых очертаний, а может быть проверки их реальности, наклонился к Маме и поцеловал в шею за ухом - немножко по-мальчишески, словно бы заигрывая, возможно, для того, чтобы замаскировать или подавить волнение. Мама досадливо отмахнулась, потому что вслушивалась в тишину, но на ее губах появилась легкая снисходительная улыбка. Однако когда они поднялись на один пролет, на площадке, откуда через круглое оконце с лучистым переплетом (лучи сходились на синем стеклянном кружке) виден был сад, большая туя, береза и серебристая ель, послышались чьи-то голоса.
Они замерли. Слов было не разобрать, впрочем, через минуту голоса смолкли. Только теперь Отец посмотрел на пол. В нескольких местах бурые комочки, растекшиеся капли... Мама опустила ногу обратно на ступеньку, но Отец (возможно, задетый за живое тем, что башенку, с которой они могли б увидеть поля аэродрома, лес в Бжезно и даже море, неожиданно отобрал у них кто-то более расторопный, раньше взобравшийся наверх) машинально протянул руку к стене, где из-за железного ящика с углем выглядывала закопченная кочерга. Мама потянула его вниз, но Отец, прислушивавшийся с поднятой головой к тому, что происходило наверху, не заметил ее встревоженного движения. Голоса зазвучали отчетливее, но слов они по-прежнему не понимали.