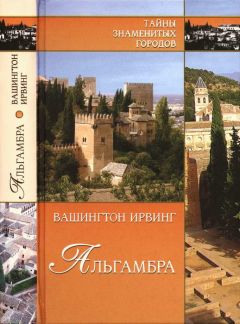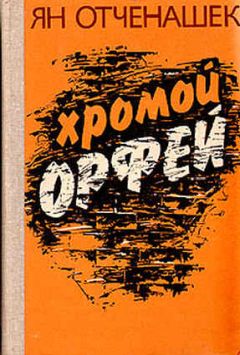Ян Отченашек - Хромой Орфей
Все захохотали и снова чокнулись.
- Бацилла, за твою талию! С такой фигурой ты покоришь любую!
Однако Бацилла уже был не способен принять подарок и вообще ничего не соображал: он был мертвецки пьян и лежал на диване, скрестив руки на мягком животике.
Милан наклонился над ним и поморщился.
- Ш-ш-ш, ребята! Он что-то бормочет, слышите? Какое-то женское имя. Видно, его девственность все не дает ему покоя. - Он хлопнул спящего брошюрой по носу и потряс его. - Проснись, ишь нализался!
Но Бацилла только перевалился на бок и продолжал вздыхать. Приятели трясли его, пока он не очнулся и не опустил на пол коротенькие ножки. Редкие волосы слиплись на его бледном лбу, мутные глаза тупо смотрели в одну точку. Войта ослабил узел галстука, который врезался Бацилле в шею.
- Не трогайте меня, ребята, - жалобно сказал Бацилла. - Мне так грустно на свете... Никто меня не... Дайте выпи-и-итъ!
- Спокойно, после полуночи успеешь наблеваться.
- Лучше расскажи нам о своей бабе. Кто такая эта твоя Кора? Произнесенное вслух имя проникло в самые глубины сознания толстяка, он вздрогнул, замотал головой, как медведь, и облизал пересохшие губы.
- Не скажу, хоть убейте!
- Ладно, не форси, выкладывай, пузатик. У тебя есть баба?
- Есть, - уныло всхлипнул Бацилла.
- Вы слышите? - сказал Милан. - Опять заливает, пустобрех.
- Погоди, дай ему сказать. У тебя с ней было дело?
- Было, ребята... но вы все равно не поверите... Она самая красивая и лучшая в мире... безумно страстная, и я ее страшно люблю... пойду за ней... хоть на край света... потому что она единственная, кто меня любит... - Он икнул, лицо его прояснилось при воспоминании.- Там у них такие бархатные стулья...
Испугавшись, что проболтался, Бацилла замахал своими короткими ручонками.
- Не глядите на меня, как баран на новые ворота, я не виноват, что мною никакая другая не интересуется... потому что у меня брюхо, и я потею, и не умею разговаривать с женщинами... А ведь я почти ничего не жру, стараюсь похудеть, к мучному даже не притрагиваюсь, сплю на ковре, как наш Джерик... Сколько же можно оставаться одному и только глядеть, как другие ходят с женщинами?!
- Ну ладно, - согласился Павел. - Хватит об этом. Нам-то какое дело. Выпей еще, если хочешь.
- Осел! Женщины вообще не самое главное на свете, - с отвращением сказал Милан, нагнулся за упавшей брошюрой и сунул ее обратно в портфель. Плаксивость Бациллы грозила испортить новогоднее настроение, поэтому все поскорей снова взялись за рюмки. Павел вертел ручки умолкшего радио, а Войта внимательно рассматривал нож. Потом он поднял глаза - лицо у него было странно-напряженное. Он сунул нож в карман и глубоко вздохнул.
- Ребята, - выдавил он из себя. - Мне тоже нужно вам кое-что сказать.
Блюз - это был его блюз, его голубая флуоресцирующая надежда - словно обволакивал Гонзу прозрачной тканью, проникал в него вместе со звуками кларнета. Гонза плыл в потоке этой мелодии, не замечая шума и гомона вокруг. Мелодия надломилась и потекла куда-то вниз, завершившись усталыми всхлипами... Шум вечеринки снова ворвался в приглушенное сознание. Тонкие пальцы с несносной покорностью меняют пластинки на диске. Гонза наклонился к Вуди.
- Вуди, что ты будешь делать, когда все полетит к черту?
Обезьяний лобик сморщился в удивлении.
- А разве обязательно надо что-то делать? Меня ничто не интересует. Я хочу только слушать джаз. Но в одиночестве, а не в компании горластых павианов и их самок. Я люблю джаз.
- Почему же ты не выучился играть сам, хотя бы как...
- К чему? Пусть играют другие. Я хочу только слушать. У меня не хватит терпения чему-нибудь выучиться. Я провалился еще в четвертом классе, и дальше меня нельзя было никак пропихнуть. В школе меня освободили от спорта. Хорошо, если бы освободили вообще от всего.
- Разве ты не хочешь, чтобы все кончилось?
Непонимание Вуди было явно непритворным.
- Мне все равно, я ни во что не вмешиваюсь. Пожалуй, даже не хочу, потому что не люблю перемен. Я хочу только слушать джаз. А больше я ничего не хочу. Я немного боюсь, как бы мы потом не пожалели. Видишь ли, быть вынужденным ничего не делать - это тоже недурно.
- Осел ты, Вуди, - беззлобно сказал Гонза.
- Может быть, - согласился тот. - Это будет видно. Ты, наверно, еще вспомнишь наш разговор. Пока живы родители, я ни о чем не беспокоюсь... В один прекрасный день я запрусь тут и никого не пущу. Слава богу, пластинок у меня хватает. Уникальные. Слышал ты "Hesitating blues"? Знаешь что, приходи послушать на днях. Сейчас эти обезьяны хотят вертеть задами, а не слушать джаз. А ты?
- Не знаю. Я не знаю, что мне с собой делать. У меня нет отца, и я не такой, как ты. Но джаз я тоже люблю. Сейчас я ухожу, мне здесь противно. Поставь-ка ту пластинку.
Из репродуктора грянуло соло на барабане. Гонза встал, пробрался среди танцующих пар в переднюю и вышел, распугав на лестнице кошек.
Вставая с кресла, Бланка уже знала, что сейчас будет. По крайней мере до ближайшего антракта. Всегда ей казалось, что она исполняет роль в спектакле, финал которого хорошо знает, но все же роль надо доиграть до конца, со всеми паузами, до самого последнего слова. Что же будет дальше? Партнер помог ей, она чувствовала его понукающий взгляд, и сама, без подсказки, вспомнила очередную реплику.
- Я хочу домой, - она произнесла это медленно и вяло.
- Я тебя не удерживаю. Ключ у тебя.
- Чер-рт побер-ри, по этому случаю надо дернуть, - сказал Милан, и всем показалось, что его "р" прозвучало уж очень раскатисто.
Чер-р-рт побер-ри!
Никто не пошевелился, все тупо уставились на огонек, радио тихонько бормотало. О чем тут говорить? Ругать? Упрекать? Нет, принять к сведению, и все тут. Ведь Войта не трус, он не смывается от страху. Было ясно: "Орфей" распался, так и не успев совершить что-нибудь великое.
Павел сплел худые пальцы, выгнул ладони и оглянулся на диван, где сопел Бацилла. Остаются двое, я и этот кусок мяса. Это конец. Конец "Орфея".
- Ну, так что? - сказал он в понурой тишине, преодолев первое удивление.
Сейчас они разойдутся, и его поиски начнутся сначала. Потому что "Орфей" уже мертв. Правда ли это? Да и чем, собственно, был "Орфей"? Пятеро юношей с голыми руками, неопытных и не искушенных в борьбе, пятеро не похожих друг на друга и не очень-то ладивших героев с деревянными сабельками, которых те не потрудились даже тщательно выловить, не стоят того. Шляпы. Да, может быть. И все-таки хорошо, что был "Орфей"! Хорошо! Потому что он был важен для них еще чем-то другим, что трудно определить. Вот, например, месть за Пишкота и мучительная тяга к чему-то, без чего каждому из них было бы страшно жить на свете. Да, это им давал "Орфей". Решимость не смириться, не быть тотально мобилизованным бараном. И это давал "Орфей"! Сопротивление, смелый вдох в атмосфере, зараженной всеобщей робостью. И это тоже! У них будет право глядеть потом людям в глаза. Да, и это! А кроме того, у каждого были свои чисто личные мотивы. У меня, у Милана, у Бациллы. Надо будет сохранить в себе все это. И в будущем. Навсегда. Сказать им об этом? А как? Слова, которые приходили на ум, казались Павлу ходульными, тошнотворно патетическими. Он стиснул зубы.
- Долей, Милан, через пять минут пробьет! Бацилла, в строй!
...Все это игра, только игра, и когда-нибудь она кончится! Бланка чувствовала волнующее прикосновение его рук, выдержи, девочка, доведи роль до конца! Она не выпускала из пальцев приятно шершавую ткань портьеры, он уговаривал ее тихим голосом, но она не слышала слов. "Будь разумна", "образумься". Знаю, знаю, я разумна, я должна быть разумной! Бланка вздрогнула, шевельнулась, почувствовав, что он вешает ей на шею что-то холодное и неумело запирает сзади застежку - новогодний подарок, кажется, ожерелье. Где он его взял? У нее побежали мурашки по спине: может, оно принадлежало одной из тех женщин-евреек, которые... Но у Бланки уже не было сил противиться. Что с того, ведь Зденек-то жив! Сколько раз она будет вот так бессмысленно бунтовать? А что, если однажды она найдет в себе силы бесповоротно уйти? Что тогда? Нет, молчи, странная ты жертва, стыдясь, он видит тебя насквозь - вот он ведет тебя, послушную и кроткую, обратно, к еще теплому креслу, а ты идешь и знаешь, что будешь опять пить, и спать с ним, и содрогаться, и сгорать от стыда за наслаждение, порабощающее тебя, так будет и дальше, до тех пор, пока не опустится занавес над последним актом недописанной пьесы. Чем же она все-таки кончится? Кто будет сидеть в зрительном зале? Кто будет ждать у театрального подъезда?
Кресло под торшером. Бланка уселась, поджав ноги, и угасшим взором смотрела, как узкая рука с халцедоном в кольце аккуратно наливает бокалы для новогоднего тоста.
Павел нагнулся, минутку пошарил в пружинах калеки дивана и, выпрямившись, положил на стол среди наполненных рюмок тяжелый сверток в промасленной тряпке. Он развернул его, и блестящие грани револьвера слабо блеснули в свете лампы. Все глядели на револьвер как зачарованные, и стыд сжимал им сердца.