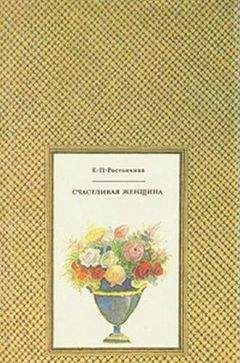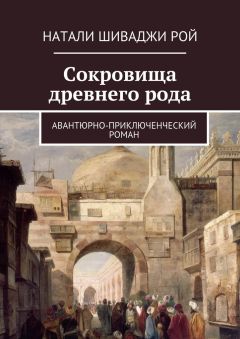Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Послышался тревожный стук в дверь, явилась Екатерина Романовна, музейная начальница, белокурая, холеная — у ней мужик — большая шишка — со вздохом покосилась на печь в причудливых облаках копоти, оглядела казенное жилье, сплошь увешанное че-ремушными и тальниковыми корнями, которые ангарская течь вылизала до костяной белизны.
— Иван Петрович, вы уж меня извините, но придется вам писать ответ на объяснительную записку вашего соседа. Вы Карлу Моисеичу угрожали топором?..
Иван обомлел, оторопел с отпахнутым ртом и выпученными глазами.
— Я?! Топором?! Бред какой-то…
— Бред или не бред, но почитайте, здесь черным по белому написано: угрожал топором…
Екатерина Романовна выложила на стол четвертину серой писчей бумаги, испещренную затейливым, кудреватым подчерком. Карл Моисеич, ветхий старичишко, похоже, из мелких служащих — «крыса конторская», обозвали его плотники, бриткие на язык — жил через стенку от Ивана и прирабатывал музейным смотрителем — все приварок к пенсишке. Невзлюбил Карл Моисеич соседа-дворника, а уж за что, про что, Бог весть; хотя, может, потому, что, бывало, нагрянет к Ивану шатия-братия — молодые, разгульные писатели и художники, — и до третьих петухов керосин жгут, водку жрут; спорят до хрипоты: куда Русь-тройка мчится, коль на облучке черноглазый хазар посиживает, бичом посвистывает… Выйдут, бывало, охладить пыл на ангарском ветру, и под звездами рядятся. Карлу Моисеичу весь сон изломают, и без того худо привечающий на старости лет, а утром с красными, опухшими глазами надо плестись на усадьбу. И хотя богемные набеги на Иванову дворницкую камору случались годом да родом, Карл Моисеич поплакался соседу Марку: «Ладно, спать не дают, а чего мелют своими языками?! Да раньше бы за такие речи давно языки укоротили…. Сами никто вроде нашего Ваньки — метлой махать, а гляди-ка ты, о чем болтают…»
Иван взял серую четвертинку и, подивившись каллиграфическим кудрям, стал читать жалобу Карла Моисеича…
«На Ваши обвинения в том, что я дважды не приехал из Иркутска на дежурства, вмененные мне по утвержденному графику, докладываю: не явился в первый раз по причине того, что дворник Иван Краснобаев накануне вечером угрожал мне топором. И я не поехал на дежурство, потому что боялся: Иван Краснобаев мог реализовать зловещий замысел, будучи махровым черносотенцем. Во второй раз не поехал на дежурство, потому что партийная совесть не позволяет мне работать смотрителем на усадьбе, где экспонируются орудия браконьерского лова: так-то, сети, невод, вентери, острога и прочее…»
— Вы угрожали топором Карлу Моисеичу? — Екатерина Романовна пытливо вгляделась в дворника, настороженно покосилась на стены, завешанные зловещими корнями — чем не разбойничья заимка, — а среди плетева корней вроде таились хищно изогнутые басурманские сабли и зловеще взблескивали короткими стволами казачьи винтовки.
— Мне кажется, у старика крыша поехала…
Дворник вспомнил, о чем и поведал Екатерине Романовне: в тот злокозненный вечер из сухого березового полешка выстругал он топорище, бутылочным сколышем зачистил и насадил на топор. Топорище, хотя и впервые мастерил, родилось затейливое, легкое, ловкое, само просилось в руки, да и топор, полого выточенный, правленный оселком, бриткий, словно в масло входил в древесную плоть. И когда Карл Моисеич по-старчески шаркал через ограду к своему крыльцу, дворник и похвастал топорищем.
Сочинять объяснительную записку Ивану не пришлось: Карла Моисеича с позором выгнали из музея — несмотря на ветхость, старичишко покусился на дебелую смотрительницу. Запирали усадьбу на ночь, и Карл Моисеич, воровато оглядевшись, вдруг наскочил на деву, чисто петух на куру, да и повалил в траву. Не ведаем, что бы и вышло, но дева, очнувшись, брезгливо смахнула старика словно сухую репейную шишку, а потом еще и пожаловалась Екатерине Романовне.
* * *Всего лишь года три с гаком подфартило Ивану пожить взаправдашним писателем, который не ширкает утренней метлой и не мечется за газетным калымом, как жучка вывалив красный, парящий язык, днем строча об искусственном осеменении овец, а ночью под синеватой, призрачной луной сочиняя про нежную лирику Анны Ахматовой. Но были три года, были они, фартовые, счастливо и азартно добытые многолетними ночными писаниями и утренними подметаньями, когда жил Иван вольным писателем на литературных хлебах. Были да сплыли, булькнули в омут, крутящий сор и палый лист, и поминай как звали.
— А ведь мы, Ванюха-свиное ухо, хошь и не коммунисты-монархисты, а жили-то при коммунизме! — Толя Горбунов, тун-гусоватый поэт из приленской северной тайги, озаренно и сокрушенно качал головой, — Просвистели, задрав к небу блажные очеса, сломя голову мотались за таежными кострами, проели, про-воровали, проболтали, прохлопали ишачьими ушами.
Да, горестно соглашался Иван, все о ту пору стоило дешево, и, воображая себя именитым писателем с тугой мошной, любил Ваня Краснобаев иной раз прокатиться с ветерком на извозчике, крепко выпить, закусить в ресторане — отпыхаться от праведных трудов. Писатель… И про сё Иван сочинил сказ, вывел в герои своего зятя Колю, обозвав его Федей…
«Зять мой Федя, воистину съел медведя — гора горой, изрядно выпив со мной на сумеречной кухонке, въедливо пытал:
— От чего расслабляетесь, ежли в пень колотите — день проводите?! — Федя зло и нсмешливо косился на меня. — Ежли тяжелыне ложки да вороньего пера ничо не подымали?! Писа-ателя…
Федя, в близком прошлом байкальский рыбак, ныне водила матерого грузовика, расшеперился на стуле в синих семейных трусах до колен, застиранной майке с вытянутыми лямками, под которой бугрилась могучая грудь, и, скандально прищурившись, пыхал в мое обиженное лицо папиросным дымом.
— Между прочим, Федя, пишут не вороньим, а гусиным пером.
— Да по мне хошь… Ты кем работаешь?
— Писателем.
— Нет, ты нарезчиком работаешь…
— Каким еще нарезчиком?
— Дуру нарезаешь.
Спорить с Федей, что воду в ступе толочь, — живуча она паразитка, сословная неприязнь, хотя и оба мы из мужичьего кореня, и я сколь ни бился, ни колотился из народа выйти не смог, так в народе и прозябаю. Вышел было из народа, выпил — хрясь мордой в грязь; одыбал, блудня, да и обратно в народ убрел — свыч-нее.
— Ладно, деверек, не дуй губы, не сердись — на сердитых воду возят, а лучше пропиши-ка, писатель, шоферскую жись…
Крепко охмелев, Федя отрыл в пыльном тещином кутке ветхую, охрипшую и осипшую гармонь, и под рыдающие переборы и насвист тянул родную шоферскую старину про Чуйский тракт, заметенный снегом, насквозь продутый свирепым алтайским сивером, пел про нелегкую жизнь шоферов, про Снегирева Кольку, отчаянного чуйского водилу «амо», что на горе, на беду по уши влюбился в Раю — шоферку «форда».
В повороте сравнялись машины,
Колька Раю в лицо увидал,
Обернулся и крикнул ей: «Рая!..»
И забыл на минуту штурвал…
После сего куплета зять уже не пел с подсвистом — выл и скулил, скрежеща зубами и катая по скулам желваки — из маятно сомкнуттых глаз слезы текли по глубоким морщинам и рытвинам словно полая вода по придорожным кюветам — и снова, омываясь слезами, тянул шоферскую старину, будто калешный фронтовик — прошак базарный:
Тут машина трехтонная «Амо»,
В бок рванулась, пошла под обвал,
И в волнах серебристого Чуя,
Он кабиной мелькнул и пропал…
Выплакивая судьбу лихого чуйского парня, плакал наш зять над бутылкой «Столичной» и судьбой горемычной, словно уже высмотрел ее близкий край, когда и на его могилку приладят штурвал и разбитые фары».
Зятя Колю Иван прописал в память о родове, значит, не токмо дуру нарезал, кинувшись словно в омут в сочинительство, обрекая себя на житейскую скудость и мучительные раздумья о суете и томлении духа.
Но до вольного писательства лет десять кормился Иван с метлы — дворничал. Утром — дворник, днем и особливо в ночной тиши — писатель, сочиняющий романы, повести, рассказы про степную, таежную, озерную деревенскую жизнь. Как у тунгуса, почетного академика, который по четным числам академик, а по нечетным — опять оленевод и поет во все закаленное на ледяных ветрах луженое хайло: «Увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам…» И уж, помнится, книгу выпустил, и в журналы прошибся с горем пополам, но метлой не попускался, метлу из рук не выпускал — без нее, родимой, жить скудно и нудно. Метла… Воспел Иван и дворницкий промысел…
«Скажу не лукавя, люблю я дворницкое ремесло, чту и по сивую бороду, как почитал своего тятю, который от дикого похмелья, душевного разора и мусора спасался тем, что прометал… вылизывал ограду и улицу вдоль палисада. Метлу же сам вязал, вешней порой наломав ирниковых прутьев. Дворницкое ремесло — самое благородное в мире: загаживать землю все мастера, а прибирают лишь дворники. Иначе бы грязью заросли по уши, яко свиньи у косорукого лодыря. Недаром поэт Воронов — нелепо погибший студент-журналист, — красиво сочинил про нас, дворников: