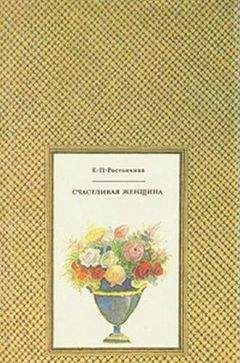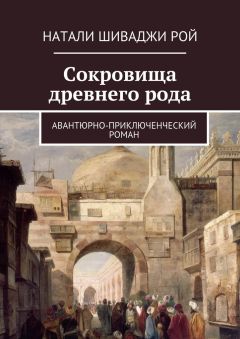Анатолий Байбородин - Озёрное чудо
Беда, описанная Емелей в слезливой вирше, случилась с Кешей Чебуниным и его бравой женкой Тосей; чудом чудным отпустил Байкал хмельную семейку из свирепых объятий, и если Тося дала зарок пред иконой Пантелеймона-целителя и с той лихой поры водку на дух не переносила, то Кеша… зарекался не пить горькую, ну да, зарекалась коза не шастать в чужой огород, а как разошелся народ, шасть в огород… И тот Кеша, сторож сельсовета, мужичок мелкий, но балагуристый, тоже строчил куплеты, но лишь по красным дням и за бутылку. К дню милиции горланил:
Юный пионер и дряхлый пенсионер!
Смело броди по ночам и не бойся лихой народ.
Толя Бурмакин — участковый милиционер, —
денно и нощно вашу жизнь стережет.
А к дню сельского хозяйства Кеша Чебунин утешал народ:
Если скотина хворает, не плачь,
доярка и скотовод.
Ваня Байбородин — колхозный ветврач —
жизнь быкам и коровам спасет.
На день рыбака, славил Степана Андриевского — байкальского промысловика:
Не страшны Андриевскому ни сарма[139], ни баргузин!
Добудет омуля завсегда и сдаст в магазин.
Сам бывалый партиец, соратникам грозил:
Ежли ты коммунист, но ворюга и жлоб,
Сталин встанет из гроба и даст тебе в лоб.
Но сердобольным кедровопадьцам пали на душу Емелины вирши, и уже без осуда и остуда озирали земляки чудную емелину жизнь. В летнюю теплынь, как настывшие за долгую зиму древние воробьихи, кекдровопадьские старухи грели на завалинке ветхую плоть и дотемна судачили, разматывая хитросплетенные и пестрые клубки чужих затейливых жизней; так вот, древние воробьихи умудренно вырешили: дескать, Емеля — не дурак, Емеля — убогий, и посиживат у Бога подле порога, ибо остатню рубаху отдаст, не пожалеет. Воистину, дурак спялил бы с плеч и, не моргнув оком, всучил голому рубаху, воистину последнюю… двух зараз у Емели сроду не водилось… просолоневшую от пота, полуистлевшую на костистых крыльцах; но никто у Емели и не выманивал ветхое рубище, ибо жил тамошний народец без нужы и стужи — кормились от Байкал-моря и Баргузин-тайги. А уж фартовые охотники да загребистые рыбаки, те и вовсе беды не знали: баргузинского соболя промышляли, городским бабам-наряженам лихо сбывали. Трясли мошной в дорогих лавках, гостинцы выбирали: сапоги, дубленки — девкам и женкам, а школьную справу, книжонки — малым ребятёнкам. Но ежели порой в пустом загашнике блоха ночевала, то ествы — все одно, вдосталь, есть не переесть, и с ладной добычи не в урон кинуть и на Емелин двор кус гуранины[140] да байкальского омуля на варю. Но фарт случался не всякий месяц, и Емеля, дурак же, обычно с хлеба на квас перебивался на пару с мамкой — вдовой солдаткой: наготы, босоты изувешаны шесты, но хошь вдругорядь в избе ни дров, ни лучины, а жили без кручины.
Завидливые мужики, что в погоне за гульбой и копейкой истрепали нервы в труху и до срока обветшали, злобились, глядючи на Емелю, коего годы не брали. Думали: нету печи о том, что в печи, потому и не стареет. В летах уже добрых, а на обличку — бравый парень: белорусый, кудреватый, с васильковыми очами и белёсыми, как у телёнка, мохнатыми ресницами — одно слово, девья сухота. Хотя Емеля винцом губы не марал, за девками не хлестал, но бабы судачили: страдал по Нюше Гурулевой, библиотечной девушке. Но дева сохла по Степану Андриевскому, байкальскому рыбаку, вот Емеля и смирился, попустился. Удил омулей, харюзей в Байкал-море, окуней, щук да сорогу в кедровопадьском сору, а в Баргузинском хребте брал черницу и брусницу, грузди, рыжики, и страсть как любил на гармошке играть. В латаном нагольном полушубке, в серых катанках, подшитых сыромятной кожей, бродил Емеля по деревне с гармошкой на плече. Дурак дураком, а тоже повеселиться радый, ежели не постные дни. Во младые лета, бывало, на Масленицу сыпанет пригоршнями русский перепляс, и народ, хошь и гол как сокол, поет и пляшет до упаду, пока не свалится под куст. Да вот беда-бединушка: завели в деревне патефоны, потом магнитофоны, и… прощай емелина гармонь. Русский перепляс забыли, дикими зверьми завыли: «Варвара жарит ку-у-ур!..», запрыгали чумными козлами — одно слово, ведьмовский шабаш на Лысом хребте. Обиженно затихла Емелина гармонь в мышином чулане…
А тут позвали в ясли на рождественскую ёлку, и Емеля, рад-радешенек, летел по стемневшей деревне, прижимая к боку веселую гармонь.
До сей поры в Кедровой Пади гуляли на советскую ёлку, но Емеля не поленился, явился в ясли и внушил хозяйке тамошней, что русским грех веселиться в разгар рождественского поста: Боженька накажет за эдакий срам, а Бог не Микитка, даст в лоб, и вырастет шишка; мол, это фармазоны да антихристы — язви их в душу — поменяли православный стиль на безбожный новый, чтобы русские забыли свои исконные радения, а с ними и праведную душу. На Емелину радость ясельная хозяйка оказалась боговерущей, хотя и староверущей, и вырешила: быть двум ёлкам: сперва советской — к ей привыкли, а на Рождество Христово русской — с ней обвыкнутся. А в заначке еще и старый Новый год…
Бежал Емеля, радовался ёлке рождественской, хотя и дул метельный баргузин-ветер, — недаром Емелина кошка то в печурке спала, свернувшись клубком, то половицы скребла, ворожила метель. Вот и расшалилась Кедровой Пади варначья[141] пурга, зазвенели лютые морозы, и тускло, испуганно мерцали сквозь вьюгу подслеповатые избяные окошки. Лишь в детских яслях тепло и цветасто светились высокие окна.
В сенях нос к носу сшибся с Кешей Чебуниным.
— Помнишь, Емеля, чо я тебе на школьной елке шептал?
— Как же, помню, помню…Об одном и думки теперичи. Шибко переживаю: єства в рот не идет, шеперится…
— Мне уж президент брякнул из Москвы: дескать, ждем Емелю, все глаза проглядели. Уж и портфель пошили, да не парусиновый — из сыромяти бычьей. Так что, паря, собирай манатки…
— Да мне собраться — подпоясаться… Инвалидну пенсию получу да и тронусь с Богом.
— Да уж поспешай, а то прощелыги в Кремле опять беду удумают… нашу Падь Кедрову китайцам продадут.
— С их станется — не родно, дак не больно… Одно в толк не возьму: как же тебе, Иннокентий Демьяныч, президент брякнул? Вы же не в ладах: Борис — демократ пьяный, а ты — коммунист рьяный…
— Нужда прижала, вот и брякнул…
— Ну, ежли нужда прижала… Может так прижать, до кустов не добежать…
— Емелюшка, самоловы мои глянул?
— Глянул, Иннокентий Демьяныч, коль просил.
— Море, поди, наудил, — Кеша не постеснялся, рассмеялся, — ты же рыбак фартовый. Я уж крапивны кули под рыбу зачинил. Сами не упрем, так коня наймем.
— Ноне без фарту, Иннокентий Демьяныч. Подвел Карл Маркс — безбожник же… Говорил, паря, Никола Чудотворец надежнее… А так… одну щучку заудил, и ту отпустил.
— Пошто отпустил-то, Емеля?
— О-ой, паря, диво-то какое вышло… Но после обскажу — ребятёшки ждут.
Залетел Емеля на елку, сметнул полушубок и, накинув на плечи потертые, забахрамевшие ремни, нежно обнял родимую, дыхнул на озябшие руки, и-и-и… полетели пальцы вприпрыжку по басам и ладам. Ожили ребятишки, гуртясь подле разнаряжен-ной кумушки-елки.
Елка-кума уже отпотела в тепле и сочно, влажно зеленела, и чудилось: посреди вьюжной зимы милостью Божией опустилось детишкам таёжное лето с хвойным смолистым духом. Ещё робея, цеплялись малыши за материны юбки, но сквозь шели в самоделишних рысьих, лисьих и ушканьих[142] масок посвечивали веселой истомой глаза-бусинки. Самые храбрые, настороженно озираясь, исподтишка гладили золотистых и серебряных рыбок и пичуг, русачков и белочек, развешанных по нижним сучьям, и тут же прятали оробелые ладошки за спину.
* * *А в чуланчике прохлаждались самодельные артисты: Дед Мороз — матерый, но смирный рыбак Степан Андриевский, Снегурочка — библиотечная девушка Нюша Гурулева, которая засиделась в девках на жениховом безрыбьи и не сводила жарких синих глаз с холостого дедушки Мороза; подле них смолила табачищем Баба-яга-костяная нога — чернявая рыбачка Шура Минеева, по прозванию Шура-красотка, играющая Бабу-ягу без грима. Позже на веселый огонек заглянул и Кеша Чебунин.
Ряженые чаевали вокруг голубого заморского ящика, откуда дышали бражным духом озябшие, потом оттаявшие, одрябшие яблоки, которые в виде безвозмездной помощи приволочил из заморского царства и продал не шибко дорого Аверьян Вороноф, бывший кедровопадьский начальник, ныне американский подданный.
— Завинилась американска помочь, — вздохнула Баба-яга, картинно поправляя чулок на костяной ноге. — Можно чушкам скормить, можно брагу заводить…