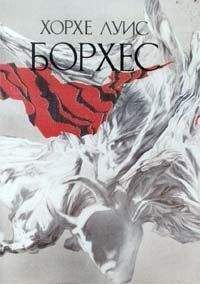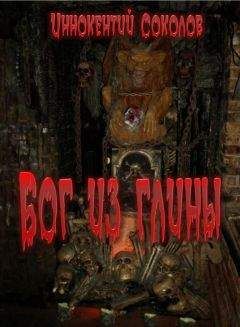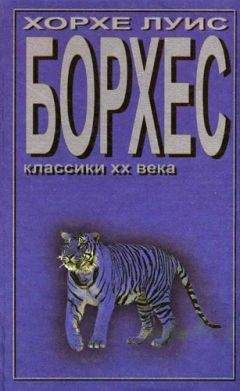Хорхе Борхес - Обсуждение
Учительские попреки нерадивым школярам, благородная ярость разума против воинствующего невежества – это Груссаку не подходит Есть самодовлеющая радость презрения. Его стиль впитал привычку третировать, что, насколько могу судить, нисколько не стесняло автора. Facit indignatio versum [Негодование рождает стих (лат.).] – девиз не для груссаковской прозы: она – как, скажем, в известном случае с «Библиотекой» – бывала и карающей, и смертоносной, но в целом умела владеть собой, сохранять привычную насмешливость, тут же втягивать жальце. Он отлично умел поставить на место, тем более – ласково, но делался неточен и неубедителен, пытаясь похвалить. Достаточно вспомнить удачные стратагемы его устных выступлений, когда речь шла о Сервантесе, за которыми следовал туманный апофеоз Шекспира. Достаточно сравнить вот этот праведный гнев («Видимо, каждый чувствует, что, поступи реестр заслуг доктора Пинъеро в продажу, и это нанесло бы непоправимый удар его популярности, поскольку отнюдь не скороспелый плод полутора лет дипломатических странствий доктора, кажется, свелся к „впечатлению“, произведенному им в деле Кони. Слава Всевышнему, гроза миновала; по крайней мере, мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы творения упомянутого доктора не постигла столь печальная судьба») с незаслуженностью и невоздержностью выпадов такого сорта: «Вслед за распахнувшимся передо мной по прибытии золотым триумфом нив сегодня я вижу на горизонте, затушеванном голубоватой дымкой, радостные празднества сборщиков винограда, которые украсили богатейшую прозу винокурен и давилен нескончаемыми фестонами полнокровной поэзии. Здесь, далеко-далеко от выхолощенных бульваров и их чахоточных театриков, я вновь ощущаю под знакомыми деревьями трепет древней Кибелы, вечно плодоносной и юной богини, для которой безмятежная зима чревата новой, близкой весною...» Не знаю, допустимо ли предположить, что хороший вкус реквизирован здесь автором для исключительных террористических нужд, но плохой – это, несомненно, его личное достояние.
Со смертью любого писателя немедленно встает надуманная задача: дознаться или предвосхитить, что именно из его наследия сохранится в веках. Вопрос, не лишенный великодушия, поскольку предполагает, что плоды человеческого разума могут быть вечными, независимыми от автора и обстоятельств, которые произвели их на свет, но вместе с тем разрушительный, поскольку подталкивает вынюхивать во всем признаки упадка. Я вижу в проблеме бессмертия скорее драму: сможет ли вот этот человек как таковой пережить свое время или нет. Его противоречия – не порок, напротив: чем они характернее, тем дороже. Ни на кого не похожий Груссак – этот Ренан, жалующийся на обошедшую его славу, – свое время, я уверен, переживет. Его в Латинской Америке ожидает такое же единогласное бессмертие, какое увенчало в Англии Сэмюэла Джонсона: оба они – воплощенная нетерпимость, эрудиция, язвительность.
Неприятное чувство, что в крупнейших странах Европы или в Северной Америке писателя почти не заметили, в Аргентине оборачивается тем, что за ним отрицают первенство даже в нашей негостеприимной республике. Тем не менее, оно ему по праву принадлежит.
Вечное состязание Ахилла и черепахи
Понятия, связанные со словом «драгоценность» – дорогая безделушка, изящная, но не крупная вещица, удобство перемещения, прозрачность, не исключающая непроницаемости, утеха в старости, – оправдывают его употребление в данном случае. Не знаю лучшего определения для парадокса об Ахилле, столь устойчивого и настолько не поддающегося никаким решительным опровержениям – его отменяют на протяжении более двадцати трех веков, – что мы уже можем поздравить его с бессмертием. Повторяющиеся наплывы тайны ввиду такой прочности, тщетные ухищрения разума, к которым он побуждает человечество, – это щедрые дары, за которые мы не можем не благодарить его. Насладимся же им еще раз, хотя бы для того, чтобы убедиться в своей растерянности и его глубокой загадочности. Я намерен посвятить несколько страниц – несколько минут, разделенных с читателем, – его изложению и самым знаменитым коррективам к нему. Известно, что придумал его Зенон Элейский, ученик Парменида, отрицавшего, что во Вселенной может что-либо произойти.
В библиотеке я нашел несколько версий этого прославленного парадокса. Первая изложена в сугубо испанском Испано-американском словаре, в двадцать третьем томе, и сводится она к осторожному сообщению: «Движения не существует: Ахилл не сумеет догнать ленивую черепаху». Подобная сдержанность меня не удовлетворяет, и я ищу менее беспомощную формулировку у Дж. Г. Льюисa, чья «Biographical History of Philosophy» («История философии в биографиях») была первой книгой по философии, которую я стал читать, то ли из тщеславия, то ли из любопытства. Попробую изложить его формулировку. Ахилл, символ быстроты, должен догнать черепаху символ медлительности. Ахилл бежит в десять раз быстрее, чем черепаха, и дает ей десять метров форы. Ахилл пробегает эти десять метров, черепаха пробегает один метр, Ахилл пробегает этот метр, черепаха пробегает дециметр, Ахилл пробегает дециметр, черепаха пробегает сантиметр, Ахилл пробегает сантиметр, черепаха – миллиметр, Ахилл пробегает миллиметр, черепаха – одну десятую долю миллиметра, и так до бесконечности – то есть Ахилл может бежать вечно, но не догонит черепаху. Таков бессмертный парадокс.
Перейду к известным опровержениям. Самые старые – Аристотеля и Гоббса – включены в опровержение, сформулированное Стюартом Миллем. По его мнению, эта проблема – всего лишь один из многих примеров заблуждения из-за ложной аргументации. Стюарт Милль уверен, что может его опровергнуть следующим анализом:
В заключении софизма слово «вечно» означает любой мыслимый промежуток времени; в предпосылке предполагается любое число временных отрезков. Это означает, что мы можем делить десяток единиц на десять, частное – опять на десять, сколько раз нам вздумается, и делениям пройденного пути, а следовательно, и делениям времени состязания конца нет. Однако бесконечное количество делений может осуществляться с чем-то конечным. В содержании парадокса не дана иная бесконечность длительности, чем та, что содержится в пяти минутах. Пока эти пять минут не прошли, частное можно делить на десять и еще раз на десять, сколько нам вздумается, что вполне осуществимо с тем фактом, что общая длительность составляет пять минут. В результате доказывается, что для того, чтобы преодолеть это конечное пространство, требуется время, бесконечно разделяемое, но не бесконечное. (Милль, «Система логики», книга пятая, глава седьмая.)
Я не могу предвидеть мнение читателя, но чувствую, что предложенное опровержение Стюарта Милля есть не что иное, как изложение парадокса. Достаточно установить скорость Ахилла в одну секунду на метр, чтобы найти требуемое время.
10 + 1 + 1/10 + 1/100 + 1/100 + ...
Предел суммы этой бесконечной геометрической прогрессии будет двенадцать (точнее, одиннадцать и одна пятая; еще точнее, одиннадцать с тремя двадцатипятыми), но он никогда не достигается. То есть путь героя будет бесконечен, и он будет бежать вечно, но его маршрут закончится, не достигнув двенадцати метров, и его вечность не достигнет двенадцати секунд. Это методичное разложение, это конечное падение в бездны все более мелкие, на самом деле не уничтожают проблему, а просто хорошо ее представляют. Не будем также забывать, что и бегуны уменьшаются – не только вследствие визуального уменьшения перспективы, но вследствие волшебного уменьшения, к которому их вынуждает то, что они занимают все более микроскопическое пространство. Представим себе также, что эта лестница бездны разрушает пространство при все более ускоряющемся беге времени, – этакий отчаянный двойной бег наперегонки неподвижности и экстатической быстроты.
Другой попыткой опровержения была сделанная в тысяча девятьсот десятом году Анри Бергсоном в его известном «Опыте о непосредственных данных сознания» – само название книги является предвосхищением основания. Вот страница из нее:
С одной стороны, мы предписываем движению такую же делимость, какую имеет преодолеваемое пространно, забывая о том, что можно делить предмет, но не действие; с другой стороны, мы привыкаем проецировать самое действие на пространство, применять его к линии, по которой движется предмет, – короче, делать движение вещественным. Из такого смешения движения и пройденного пространства и рождаются, на наш взгляд, софизмы Элейской школы; поскольку интервал, разделяющий две точки, бесконечно делим, и если бы движение состояло из частей, подобных частям интервала, этот интервал никогда бы не был преодолен. Но суть в том, что каждый из шагов Ахилла – это простой неделимый акт и после некоего данного числа таких актов Ахилл должен был бы догнать черепаху. Заблуждение элеатов происходило из отождествления этого ряда отдельных актов sui generis [особого рода (лат.)] с гомогенным пространством, на котором они совершаются. Поскольку это пространство может быть делимо и разложено согласно любому избранному закону, они сочли себя вправе переосмыслить движение Ахилла в целом уже не в шагах Ахилла, но в шагах черепахи. Догоняющего черепаху Ахилла они в действительности подменили двумя черепахами, действующими согласно, двумя черепахами, сговорившимися делать шаги одного рода или одновременные действия, чтобы никогда одна не догнала другую. Почему Ахилл обгоняет черепаху? Потому что каждый из шагов Ахилла и каждый из шагов черепахи, будучи движениями, неделимы: таким образом, весьма быстро набирается сумма пространства, преодоленного Ахиллом, как длина, превосходящая сумму пространства, пройденного черепахой, и данной ей форы. Вот чего не учитывает Зенон, разлагая движение Ахилла по тому же закону, что и движение черепахи, забывая, что только пространство поддается произвольному сложению и разложению, и смешивая его с движением («Непосредственные данные», испанский перевод Барнеса, страницы 89, 90. По ходу дела исправляю некоторые явные огрехи переводчика.) Суть фрагмента несложна. Бергсон допускает, что пространство бесконечно делимо, но отрицает такую делимость во времени. Чтобы развлечь читателя, он выводит двух черепах вместо одной. Он хотел бы сочетать время и пространство являющиеся несочетаемыми: неровное, прерывистое время Джеймса с его неизменным бурлением обновления и делимое до бесконечности пространство нашего обычного восприятия.