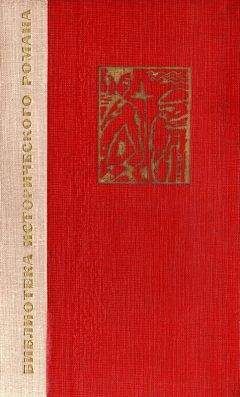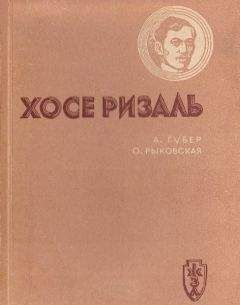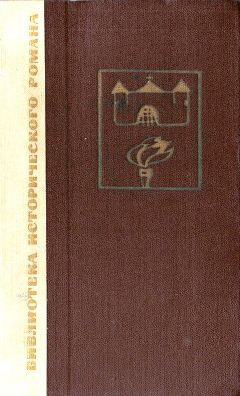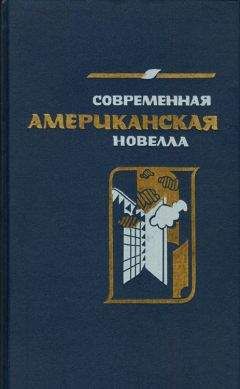Эфрен Абуэг - Современная филиппинская новелла (60-70 годы)
После этого один богатый вдовец зачастил к Эден из самого Тарлака. Потом в нее влюбился инженер, который щедро одаривал всю семью рыбой из своих прудов. Когда угольно-черные «хадсон» и «форд» останавливались у их ворот, тетушка Канденг трепеща доставала из закромов довоенные консервы, чаще всего сосиски, и потчевала соперников. Но однажды в городке оказался проездом безработный коротышка-военный, и Эден сбежала с ним. Он был простой лейтенант, и тетушка никогда не простила их. Они поселились в нашем городе, на грязной кривой улочке, и постоянно жестоко ссорились между собой. Поссорившись, Эден увязывала сковородки, подушки, матрасы и альбомы с фотографиями, хватала недельного младенца и переселялась на несколько дней к нам. В последний период оккупации ее муж ушел в партизаны, и Эден стала жить с нами постоянно.
Лина приехала позже. Дикарка расцвела, превратившись в гибкую и тонкую девушку, унаследовавшую от матери умение вести хозяйство. Впрочем, она была несколько нервического темперамента. Она постоянно плела сумки-макраме из манильской пеньки вплоть до того дня, пока на нас не посыпались бомбы. Еще она изготовила специальный широкий пояс с множеством секретных кармашков.
IIIКомната моего брата была самой большой в доме, как гостиная и столовая, вместе взятые, — в доброе старое время здесь помещалась бильярдная. Из этой комнаты, в которой стоял рояль, был выход на террасу. Здесь часто собирались друзья брата — Сельсо, Пакито и Нононг, задумавшие издать небывалую книгу стихов. У отца Сельсо был допотопный печатный станок, ржавевший без дела; друзья заволокли его в комнату и колдовали над ним, пытаясь заставить его работать.
Рояль выиграл в лотерею дядюшка Нононга, начисто лишенный музыкального слуха. Он был настолько глух к музыке, что единственным музыкальным произведением, которое он был способен узнать, был национальный гимн — при его исполнении все вставали. И затрат-то всего — расходы на лотерейный билет и транспорт, а Нононг получил на день рождения слегка подержанный, но прекрасный «Стейнвей» вместо давно желанной книги. Комната Нононга оказалась слишком мала для рояля, потому инструмент и дряхлел в комнате Рауля. Мама никогда не запрещала мальчикам тащить все в дом, лишь бы они ничего не выносили на улицу.
Порой они вставляли свечи в бутылки, и мой брат Рауль до глубокой ночи читал Библию. Они называли меня своей музой и позволяли мне слушать их стихи — ведь я читала Дикинсон и Марло[55], что, конечно же, укрепляло мой авторитет, а кроме того, меня можно было послать за сладким или за еще одним стулом. Пакито умел играть на рояле «Звездную пыль», Сельсо — показывать шутливые пантомимы, но больше всех мне нравился Нононг — он умел все. Он подарил мне волшебный карандаш, который предохранял от чего угодно; до войны такие давались в придачу к карточке с предсказанием судьбы. На рождество я подарила ему носовой платок, вышив на нем его инициалы.
Нононг всегда старался сделать из меня интеллектуалку. Те немногие книги, что я прочла, — «Отверженные», «Расёмон», «В дебрях Африки» — принес мне он. Я перерыла книжный шкаф отца в надежде отыскать что-нибудь достойное послужить ответным даром, но моей добычей оказался лишь четвертый том энциклопедии «Британика» — от Иоанна Крестителя до леггорнов[56].
Я прочла довольно многое из того, что Нононг, можно сказать, впихивал в меня, но больше всего понравился мне как раз тот четвертый том «Британики» от Иоанна Крестителя до леггорнов.
Однажды, после того как мы навестили друга, а Рауль не мог проводить меня домой — мать запретила мне возвращаться одной, — проводить меня отправился Нононг. Мы шли по улице и хохотали: уличные фонари не горели, и велосипедисты шарахались из стороны в сторону, не разбирая дороги.
— Давай зайдем к тебе на службу, Нононг, — сказала я, — и ты возьмешь книгу, которую обещал мне.
— Хорошо, — ответил он, — хотя пригодного чтения там осталось совсем мало — бюро цензуры уже вымарало все лучшие страницы и картинки.
— Ну и прекрасно, — молвила я, махнув рукой с тем скучающим выражением, которое подсмотрела у одной кинозвезды. — Все лучше, чем медленно погибать от скуки.
— Ты одинока, Виктория?
— Нет, — ответила я с вызовом, зная, что сказала неправду.
Мы продолжали идти по улице.
Повернули к ступеням его офиса на улице Р. Идальго, над которым виднелась японская вывеска. Задняя часть здания была разрушена бомбой, но никто не потрудился расчистить обломки. В эту ночь было объявлено затемнение, и в здании царила полная тьма. Мы на ощупь поднялись по лестнице и вошли в комнату. Пять письменных столов, дальний — стол Нононга, под электрическим вентилятором. Нононг открывал каждый ящик и рылся в его содержимом.
— Это где-то здесь, — сказал он.
Я вышла на крошечный балкончик и смотрела вниз на пустеющую улицу. Через четыре дня рождество. Бумажные фонарики висели почти на всех окнах, но ни один не зажегся; они покачивались, печально дрожа, на холодном ветру. Я устала от войны. Мне хотелось, чтобы Нононг обнял меня и поцеловал и всегда любил бы, но я знала: стоит ему позволить себе большее, чем коснуться моей руки, как я дам ему пощечину и никогда не заговорю с ним. Он молча стоял рядом, опершись на подоконник, и я видела вены на его руках. Под нами был совершенный мрак.
— Кем ты собираешься стать после войны, Нононг?
— Хм… писателем, я думаю, или бездельником, или кем-нибудь еще. Мне хотелось бы купить дом на вершине холма и прожить там в одиночестве всю жизнь.
— А если кто-нибудь полюбит тебя?
— Да кто же сможет полюбить меня, глупышка!
Я посмотрела снизу на гордый профиль, гравированный на темном фоне, тонкий, прекрасный, аскетический, словно лик Христа.
— Святое небо, Нононг, — сказала я, — ты похож на божество!
— Не богохульствуй, Виктория, где же воспитание монастырской школы? — Он улыбался. — Я нашел книгу, можем идти.
Мы опять прошли на ощупь по коридору к лестнице — внизу была дверь, освещенная закопченной лампочкой.
Мы — потерянное поколение: мой брат Рауль и его друзья были уже не мальчиками, но еще и не мужчинами, они были людьми без места, без работы, и они мотались по улицам, забыв об отдыхе, лишь бы отыскать какое-нибудь дело. Отец затеял производство керосиновых ламп, и мальчики помогали ему по утрам — резали стекло, разбивали молотками оловянные бидоны, формовали их по шаблону. Но вторая половина дня оставалась свободной. Нононг и я научились отставать после церкви и гулять, грызя жареные орехи, если бывали вдвоем. Иногда я ходила вместе с их компанией в «Фармацию де ла Роса», там можно было заказать пломбир из свежего молока. Хозяйка объясняла нам, что молоко каждый день везут из Пампанги, минуя четыре заставы, потому оно так дорого. Порой мы отправлялись в «Туго и Пуго» на представление, там можно было купить час смеха, чаще же, взяв напрокат велосипеды, катили на окраину, где нас никто не знал, поглядывая через заборы на японские казармы, над которыми развевались флаги с восходящим солнцем.
Однажды я сказала матери, что вечером придет Нононг и я приглашу его к ужину. Я трудилась над пирогом из кассавы у раскаленной печи. Лина была замечательным поваром, но я считала ниже своего достоинства просить ее помощи и советов. На ужин были свежие пресноводные сардины из Батангаса и прекрасная ветчина, приготовленная мистером Соломоном. Прошел уже час, как наступило время ужина, а Нононга все не было. Когда мы все-таки сели за стол, никто ничего не сказал, кроме Бони, который опоздал и, глядя насмешливо на лишнюю тарелку, открывал и закрывал рот, как рыба на песке.
Лил дождь, когда появился Нононг, пахнущий пивом, опоздавший на три часа и виноватый. Я уже убрала тарелки и пирог из кассавы, над которым трудилась полдня, и все еще злилась. Он поместился в широкое кресло из камагонгового дерева, я села напротив, между нами — только ваза с цветами. А потом мы уставились друг на друга и замерли. Мы чувствовали наши сердца, понимали, что в них взрастало нечто — месяц за месяцем, независимо от нас самих, без нашего участия. И словно в печали оцепенения я вымолвила просто:
— Ты мне снился прошлой ночью. Ты сидел на стуле, а я — на полу, обнимая твои колени, и я сказала: «Я люблю тебя», а ты ответил: «Хорошо бы ты сумела справиться с этим».
Он протянул руку и коснулся моей руки, и я отдернула руку. Но через минуту мы опять потянулись друг к другу, и я плакала в его ладонях, а он говорил: «Помоги мне, я так несчастен». А потом мы услышали шарканье ночных туфель, это Эден шла в столовую, чтобы открыть банку с молоком для малыша, и я сказала ему, чтобы он уходил и больше не возвращался никогда.
17 февраля Нононг позвонил мне. Мы долго болтали о том, о сем — о множестве бессмысленных вещей. Потом, уже незадолго до того, как японцы отключили телефон, я услышала его голос на другом конце провода, произнесший отчетливо и нежно: «Выслушай меня и запомни, Виктория, я люблю тебя». И это был единственный раз, когда он сказал мне это.