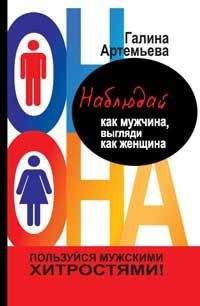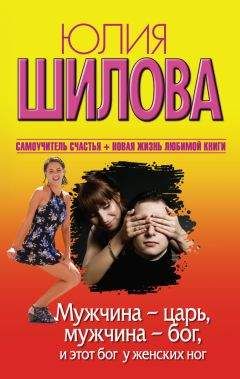Рик Басс - Пригоршня прозы: Современный американский рассказ
В апреле я начну красить подпорки и ящики для цветов, рыхлить землю и сажать семена — мне нравится эта работа. Дважды в день буду поливать посевы, лелеять невидимую мне жизнь. Стану волноваться, что семена окажутся слабыми, почва слишком песчаной, а соседские мальчишки, пока я на работе, примутся играть на нашем дворе в войну. Еще буду волноваться, что парфюмерный магазин выбросит у забора вредные химикаты. Там, где я вижу будущую жизнь и плодородие, остальные видят грязь.
Но этот роман с невидимой жизнью скоро закончится: к марту она обнаружит себя первыми ростками нарциссов, тихо выходящими из-под земли в северо-восточном углу нашего двора. Я стану их поливать, разговаривать с ними, включать для них музыку в патио, и все будут думать, что я не в себе. Крошечным темным листочкам будет трудно в этих суровых условиях, но все-таки они выживут. За ними последуют другие побеги; это будет моей победой.
В роддоме мне таки не показали Кэтлин, первый раз я увидела ее в Сан-Франциско, когда ей было лет пять. Я встала у кассы и вдруг почувствовала, что на меня кто-то смотрит. Это была приемная мать моей дочери — я ее сразу узнала, хотя сейчас она выглядела старше и не так шикарно, как тогда, в роддоме. В тот раз это была гордая и красивая тридцативосьмилетняя женщина с ярко накрашенными губами, похожая на кинозвезду. Она села рядом с моей кроватью и стала показывать фотографии маленькой девочки, которую они с мужем удочерили год назад, фотографии игрушек, комнат и дворика за домом, в котором будет жить моя дочь. Ее муж нервно прохаживался по палате, а она держала мою бледную руку, массируя опухшие суставы.
Но сейчас, в кафе, эта женщина была совсем иной, она одна узнала меня и страшно перепугалась. Она смотрела на меня, приоткрыв рот, на побелевшем лице выступила испарина. Наши глаза встретились, она быстро повернулась к старшей дочери и стала помогать ей в сложном деле — донести ревень из тарелки до губ. Она, видно, надеялась, что я — плод ее воображения и что в следующий раз, когда она поднимет глаза, меня уже не будет, я исчезну навсегда, как и планировалось с самого начала. Моя дочь сидела рядом с ней, с шумом всасывая суп из большой ложки, у нее были такие же темные и непослушные волосы, как у меня, а кожа по-ирландски светлая, как у отца. Она напоминала меня в пять лет, на ней была широкая мешковатая одежда, выбранная ее матерью, которая старше меня на двадцать лет, — ей столько же, сколько моей маме.
Отец Кэтлин нежно коснулся пухленькой ручки моей дочери и посмотрел на нее — мол, чмокай потише. Оставив свой сандвич на прилавке, я бросилась наружу, на стоянку, врубила мотор и помчалась через задний проезд на улицу. Остановилась, только когда приехала домой; дворники всю дорогу — шесть миль — исправно терли сухое стекло. Я думала только о том, что никогда бы так ее не одела.
Иногда я представляю себе всякие ужасы, которые Кэтлин может вообразить про меня: что я умерла родами, что не хотела ее или не пыталась оставить у себя. Или что решила избавиться от нее, потому что она была мне неприятна еще внутри моего тела, или что я глупая, беззаботная или ветреная, и эти качества передадутся ей с генами. Или я о ней вообще не думаю. Ее родители собирались с самого начала сообщить Кэтлин, что она — им не родня, и не уклонятся от ее расспросов, но постараться, чтобы она в эту тему не углублялась. А что, если она побоится спрашивать? Сказали ли они ей правду или я, по их словам, погибла вместе с ее отцом в автокатастрофе?
Служащая из социального отдела округа сказала, что, когда Кэтлин исполнится восемнадцать, она сможет запросить мои биографические данные, которые я им сообщила во время беременности. Они скажут ей, что это бескорыстное решение было принято в ее же интересах, и что приемные родители мечтали о ней больше всего на свете, и их дом для нее лучше, чем мой. Может, они расскажут ей, что в нашей семье по наследству передается музыкальный талант и сенная лихорадка, что я итальянского происхождения, занимаюсь садоводством и пою в хоре. Ей скажут, что сейчас у меня, вероятно, есть собственные дети, и общение со мной может разрушить мою семью; что воспоминания, возможно, причиняют мне боль, и вообще у них нет моего теперешнего адреса. Но они вряд ли предупредят, что от тетрациклина у нее может появиться сыпь в горле. И о том, что в семье Паччиано все рождаются с длинным копчиком, и, хотя можно сделать операцию, он все равно через несколько лет отрастет. И наверно, не сообщат, что ее мать и одна из ее теток больны эндометритом и для них потеря ребенка — не та боль, которую можно забыть.
Мне будет несложно отыскать дочь, и я, видимо, займусь этим, когда она станет постарше, хоть и дала обещание — и письменное, и в душе — навсегда исчезнуть из ее жизни. Но мне необходимо знать, что ей хорошо; и мне хочется, чтобы и она знала, что я ее люблю. Я хочу, чтобы мы обе обрели душевный мир, который может прийти, только когда мы заглянем друг другу в глаза.
Но пока я только воображаю, как она сидит в комнате сестры, рядом с бежевым телефоном, неуклюже поджав длинные ноги, и доедает шоколадку. Мне представляется, что их большой дом стоит в предместье, в самом конце дороги, ведущей в горы. У нее есть стоя комната и много славных вещей: книжек, одежды; может быть, даже есть флейта.
Под ее окном растет персиковое дерево. Она потрясающе хороша со своими густыми итальянскими кудряшками и темными, прозрачными, как у меня, глазами; у нее узкая, как у всех нас, ступня и длинный копчик; в школе из-за него нельзя просидеть на деревянном стуле и часа. У нее отцовская молочного цвета кожа, тонкая шея и острый подбородок. Нашего паччиановского двойного подбородка у нее уж точно не будет.
Временами сад становится для меня обузой: утром не хочется идти поливать, к концу дня устаю орать на соседских ребятишек всякий раз, когда они, прыгая через забор, приземляются на мои бегонии. Иногда тля успевает добраться до помидоров прежде меня, а когда свекла, которую я вырастила, собрала и промыла, покрывается в холодильнике плесенью, я начинаю проклинать свой напрасный труд и клясться, что больше никогда не буду ничего выращивать.
Но потом я прищипну фузии и сделаю из базилика соус песто, а под зиму посею шпинат, морковь и брюссельскую капусту. Весной выставлю на стол свежую клубнику и будем пить вино с друзьями, соседями и сослуживцами. Сад наполнится петуниями и наперстянками; муж, как всегда, сфотографирует меня среди них. И однажды днем, когда я буду пить чай на патио, позвонит моя дочь. Я подойду к телефону; у нее заколотится сердце, и она заговорит. И не бросит трубку.
Lisa K.Buchanan, «The Mother Who Never Was»
Copyright © 1990 by Lisa Buchanan
Опубликовано в «Мадемуазель»
© А. Сошальский, перевод
Альберто Альваро Риос
Поезда в ночи
Отсыпая дневную порцию корма для цыплят из большого ящика в кувшин, мистер Ли видел, как от семян поднимается пыль, как от земли тянется вверх холодный пар — или горячий от чашки café con leche[16]. Как клубится дым над костерком на заднем дворе, как душа покидает тело больного. Он не размышлял над всем этим, это ничего не значило. Он просто смотрел.
Однако, когда явились солдаты, захотел обладать такой способностью — суметь улететь из собственного тела, оставить его им и потом уже не чувствовать, что они с ним сделают. Этого нельзя было себе представить.
Он замечал мгновение воображаемого бегства везде: в поднимающемся дымке сигареты, во взлете стайки воробьев. Даже, думал он, в звуке слетающей с губ песни, в мелодии. Думал, что настоящее место музыки — среди птиц.
Он желал этого равно для всех сородичей, но его желания мало помогали. Солдаты забирали всех китайцев, которых могли найти, днем или ночью, бесцеремонно, без предупреждений и объяснений, по указке соседей и по слухам, по вывескам на магазинах. Кто бы мог подумать, что такое может случиться, говорили потом в городе.
Но солдат есть солдат, и кто скажет солдату «нет»? Коричневый мундир принимает в себя человека и превращает его в исполнителя. Он уже ничей сын.
Они всегда были здесь, эти солдаты, словно не рождались и не умирали. Никто не знает, откуда они пришли. Или кто их учителя, что они за люди. Что это за места, где тяжелый шаг, вытянутая шея, салют вместо доброго рукопожатия — знаки хорошего тона? Места, где люди могут договориться, не протягивая руки друг другу. Понять человека так, как мы понимаем, ощущая его шершавую ладонь.
Мистер Ли телом и душой вот уже тысячу лег был женат на Хесусите. Почему? Он бы пожал плечами — кто знает… Это — как глубокая шахта, как внутренности, кулисы оперы, сказал бы он, и разве не были они вдвоем достойными певцами в этой опере? Она бы покачала головой и сказала, что не понимает этого.