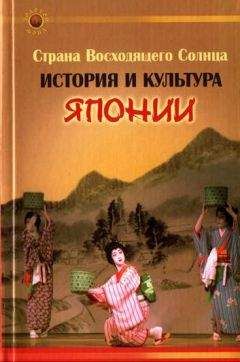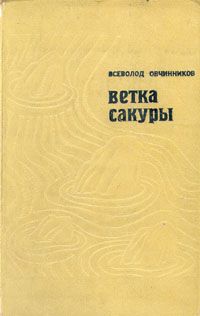Осаму Дадзай - Современная японская новелла 1945–1978
Тацухэй осторожно высунулся из-за скалы. О-Рин сидела прямо перед ним. Голова и спина ее были покрыты циновкой. На волосах надо лбом, на груди и коленях лежал снег. Она бормотала молитву, уставившись в одну точку, как Белая лисица.
— Мать! А снег-то и вправду пошел! — громко сказал Тацухэй.
О-Рин тихо подняла руку и махнула ему, словно говорила: «Уходи! Уходи!»
— Мать! А тебе не холодно?
О-Рин покачала головой. Тут Тацухэй заметил, что поблизости нет ни одной вороны. «Может, улетели в деревню, ведь снег пошел, или забрались в гнезда, — подумал он. — Хорошо, что начался снегопад. Лучше сидеть под снегом, чем на холодном ветру. Так и заснет, наверно».
— Мать! Ты счастливая, раз снег пошел, — сказал Тацухэй и добавил из песни:
Пошла в горы —
Выпал снег.
О-Рин кивнула и махнула в ту сторону, откуда доносился голос Тацухэя: велела ему уходить.
— Мать! А снег-то и вправду пошел, — еще раз крикнул Тацухэй и поскакал с горы, как заяц. Он мчался вниз что было сил, — боялся, как бы кто-нибудь не заметил, что он нарушил обет. Так он добежал до скалы, нависшей над Нанатани, и увидел внизу, в снегопаде, сына Деньги, который снимал с себя носилки. На носилках сидел Мата. Он был связан толстой веревкой, как преступник.
«Ох!» — невольно выдохнул Тацухэй и застыл на месте. Сын собирался сбросить отца в пропасть. Тацухэй своими глазами видел, что он собирается сбросить Мата в бездонную, как преисполняя, пропасть, окруженную со всех, со всех сторон горами!
И тут Тацухэй вспомнил слова Тэру, сказанные ему вчера ночью: «Неохота будет подниматься на гору, можешь вернуться от Нанатани». «Так вот о чем он говорил!» — подумал Тацухэй.
Вчера ночью Мата сбежал, а сегодня его приволокли сюда туго связанным, свалили, будто неживого уже, будто куль картошки, и хотели теперь спихнуть в пропасть. Однако веревка, видно, немного ослабела. Мата просунул между нею пальцы и крепко уцепился за воротник сына. Тот пытался оторвать его пальцы, но Мата пальцами другой руки ухватился за его плечо. Ноги Мата повисли над пропастью.
Мата и его сын молча боролись на глазах у Тацухэя, — будто забавлялись. Наконец сын поднял ногу и пнул отца в живот. Мата полетел головой в пропасть, раза два перевернулся и покатился боком с крутого откоса вниз.
Тацухэй наклонился над пропастью, и тут со дна ее, словно смерч, словно черная туча, вскипела большая стая ворон.
«Вороны!» Тацухэй съежился от ужаса. Чудовищные птицы, галдя, кружились высоко над его головой. «Где-то в пропасти их гнезда. Они туда забрались, когда пошел снег, и теперь вылетели. Наверно, Мата упал прямо на них».
Покружившись, вороны стали понемногу спускаться в пропасть.
«Добычу почуяли! — содрогнулся Тацухэй. — Наверно, сразу умер, как упал». Он взглянул, где сын Мата. Тот мчался вниз с пустыми носилками за спиной, будто летел по воздуху. Видно, и ему стало жутко, когда увидел ворон.
«Такой не поставит сакэ на прощание», — понял Тацухэй, провожая взглядом пригнувшегося по-волчьи старшого сына Мата.
Снег падал пушистыми, как цветы пиона, хлопьями. Когда Тацухэй добрался до деревни, солнце уже село и было темно.
«Младшая, наверно, скучать будет без бабушки», — подумал Тацухэй. — Обязательно спросит: «А когда бабушка придет?» И опечалился: что же отвечать?
Он подошел к дому и, не заходя, заглянул в дверь. Младший сын забавлял девочку, напевая ей песню:
Бросим бабушку
В горах.
Ночью приползет к нам
Краб.
Дети говорили о бабушке, пока его не было. Уже знают, подумал он. Они монотонно повторяли все одну и ту же песню — песню о крабе.
Станет плакать у дверей,
Не откроем дверь.
То не краб, то птица плачет
Меж ветвей.
В давние времена стариков бросали в горах прямо за деревней. Однажды какая-то старуха приползла ночью обратно. «Ну вот, приползла, будто краб», — загалдели домашние, плотно задвинули дверь и не впустили ее, а маленький ребенок подумал, что это и вправду краб приполз. Старуха плакала за дверью всю ночь. «Краб плачет», — сказал ребенок. «То не краб, то птица плачет», — успокоили его взрослые. Обманули: все равно, мол, не поймет…
Тацухэй стоял на пороге и слушал песню про краба. Раз поют все одну и ту же песню, подумал он, значит, знают, что бабушка не вернется, и на душе у него стало легче. Он сбросил носилки и стряхнул с себя снег. Хотел отодвинуть дверь, а из кладовки вышла Мацу. Ее большой живот был подпоясан узким полосатым оби, который был вчера на О-Рин. А в кладовке сидел, скрестив ноги, Кэсакити в бабушкином ватном кимоно, накинутом на плечи. Это кимоно О-Рин аккуратно сложила вчера ночью. Рядом с Кэсакити стояла чаша — наверно, допивал остатки поминального сакэ. Вытаращив мутные пьяные глаза, наклонив голову набок, он твердил с радостным изумлением: «Вот повезло! Снег пошел. Вот повезло бабке! Снег-то и вправду пошел».
Тацухэй поискал глазами Тама, но ее нигде не было.
Он глубоко вздохнул. Если О-Рин еще жива там, под скалой, она, сидя под снегом, вспоминает, наверно, песню про ватное кимоно:
Как бы ни было холодно,
Ватное кимоно
Не могу надеть на тебя я,
Когда идешь ты на гору.
1956
ДЗЮН ИСИКАВА
ПОВЕСТЬ О ПУРПУРНЫХ АСТРАХ
Перевод Е. Рединой
Наместник до страсти любил охоту. Все равно какую: соколиную охоту, охоту на кабанов, охоту на оленей… Не разбирая, счастливый день или несчастливый, кружил он по горам и долинам, завороженный ускользающей тенью птицы или зверя, и едва только почудится ему вдали что-то живое, он тут же пускался вдогон, но ни разу, ни разу не попадалась дичь на острие его стрелы, не удавалось ему добыть даже голубка, даже зайчонка. Между тем лук у наместника был превосходный: из сотни стрел, пущенных им, любая поражала самую середину мишени, но на охоте с этими стрелами творилось непонятное, они улетали в воздух, хотя наместнику казалось, что летят они прямо в цель. И вот что еще удивительно: едва избегнув стрелы, птицы и звери вдруг пропадали, и никто не мог уследить, куда уносилась птица, куда уходил зверь. А сами стрелы?! Куда они падали, на дно ли ущелья, за краем ли долины, — никто не видел. Только стоял в ушах яростный свист летящей стрелы. И неизменно в свите возникал один и тот же шепот:
— О, что за мощная рука!
— Наши стрелы попадают всего только в птицу или зверя. Правда, не так уж часто. А господин наместник с единого выстрела пронзает живые души!
— Уж не божество ли направляет его стрелы, если мы после этого ничего не видим?!
Лица людей хранили полную невозмутимость, но кто знает, не таилось ли в иных голосах издевки над досадою юного наместника, ведь было ему от роду восемнадцать лет.
Но наместник, словно бы и не слышал ни этих голосов, ни издевки, быть может, звучавшей в них, он снова погонял коня и ехал дальше. Казалось, живые мишени и бесследно исчезающие стрелы только распаляли его страсть к охоте.
Однажды осенним вечером наместник со свитой ехал не спеша по пустынной дороге. Стрелы наместника в этот день летели, по обыкновению, мимо цели, но не везло и его свите — птицы и звери как ни в чем не бывало разгуливали на воле, дразня людей, которые в своих охотничьих уборах были для них не опаснее огородных пугал. Солнце садилось, воспаленные глаза наместника налились кровью, свита еле волочила ноги, не было сил даже свистнуть, чтобы поднять зверя.
Так они добрались до горной реки. Внезапно в придорожной траве возникла желтая тень и тотчас исчезла, как будто ее смахнули щеткой. Лисичка! В свите еще только вскидывали луки, а уж стрела наместника блеснула в траве. Стрела вонзилась лисичке в спину.
— А-а-а!
И все содрогнулись, так это было похоже на человеческий стон. Уж не подстрелил ли наконец их господин живое существо? А может быть, стрела по ошибке попала в кого-то из своих. Но они торопились угодить юному наместнику, и стон потонул в хоре грубых голосов, восхваляющих его меткость.
Наместник молчал. Отворотившись от добычи, глядел он на вечерние облака, рдеющие над дальними скалами. Глаза его мерцали холодком горной реки; темно-красные губы подрагивали.
— Выходит, это так просто — убить живое существо?
Если он и сказал это, то ветер успел разметать слова, и никто ничего не услышал. Двое стремянных опрометью бросились за лисицей, но наместник с неожиданной злобой закричал:
— Не трогать!
Вместе с окриком зазвенела тетива, и две стрелы сорвались с нее одна за другой. Они вонзились в спины стремянных, и те упали. Свита смолкла, и в вечернем сумраке, стлавшемся над землей, послышалось холодное журчание реки.