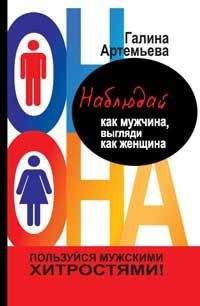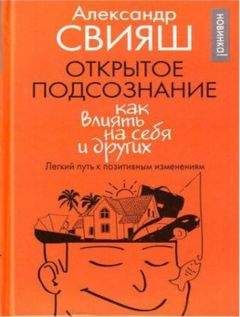Васко Пратолини - Итальянская новелла ХХ века
— Нынче все работницы пообрезали себе косы, я научу тебя делать завивку, и можно будет заработать большие деньги… Да вот боюсь, не возьмут меня; больно уж я мал ростом, — И смиренно пожимает плечами: он, мол, и сам понимает, что неказист — и телом, будто ребенок, и лицом бледный — куда он такой годен!
— Ты маленький, а сильный, — утешает его Розальба. — Уж я-то знаю.
Микеле даже вздрагивает. Впалую грудь его наполняет радостное ощущение силы.
Он встает и направляется к балкону.
— Если бы нужно было явиться в секцию[6], они бы, наверное, объявили… Анджело обещал, что поговорит обо мне с доном Примиано.
Розальба тоже выходит на балкон; проходящие мимо женщины кланяются ей, делятся с ней новостями, но Розальба едва удостаивает их внимания, отвечая скупо и самодовольно.
Издалека вдруг слышится труба глашатая. В полутьме чей-то голос говорит:
— Будет объявление насчет Испании.
— А идти когда? — спрашивает Розальба.
— К Торретте[7] подойдет — услышим.
И, затаив дыхание, все ждут, когда глашатай подойдет к Торретте. Они хорошо знают все места, откуда выкрикиваются слова объявлений, — все эти улочки, проулки и перекрестки, с незапамятных времен слыхавшие рев глашатая, приходившего будить дома и властно подзывать мужчин к порогу, а женщин — к окнам. И теперь, как и тысячу лет назад, тянется за ним под июльскими звездами шумный, весело галдящий хвост детворы, подобной той детворе, чьи отцы и деды не раз устилали землю бедняцкими костями.
— Сарацины грабят и жгут Петаччаты; селяне, бегите, беритесь за оружье; женщины, торопитесь укрыться…
— Граф ди Сангро велит всему мужицкому и ремесленному люду собраться к замку Кастеллуччо Акваборрана, чтобы идти войною на Колу ди Камповашо…
— Во имя Святого Креста и Короля, поднимайтесь все как один; французы наступают…
— Король Джоаккино[8] идет походом на Россию; крестьяне, желающие…
— Из Ларино прибыл дон Примиано; желающие отправиться на Испанскую войну должны явиться сегодня к девяти вечера в помещение секции.
Голос глашатая, звонкий и бесстрастный, стократ усиленный эхом древних стен, быстро разносится по деревне, проникая во все закоулки, заставляя мужчин подойти к порогу, женщин — к окнам и вызывая бурное веселье детворы.
Улицы оживают; из окна в окно летят громкие голоса.
Розальба говорит мужу:
— Пора идти.
Микеле подавлен и растерян.
— Да не возьмут меня, увидишь.
— Нет, возьмут, — настаивает жена; она встает и решительным шагом проходит по комнате, упруго покачивая бедрами и высоко держа на белоснежной шее пышноволосую голову.
Микеле торопливо выходит из дому и направляется к площади; по дороге он встречает Анджело, который как раз шел за ним.
— Ну, что я тебе говорил? Я зря никогда не болтаю. Если я чего не знаю, я молчу, а уж коли сказал, за свои слова ручаюсь.
— Да не возьмут меня, — твердил Микеле.
— Возьмут, возьмут; я же обещал поговорить о тебе с доном Примиано.
— А ты не поедешь?
— Я? А мне зачем? У меня ведь нет долгов, а капиталу своего мне теперь хватит и на кожу и на колодки; я собственную мастерскую открою.
Микеле не отвечает; он вообще говорит мало, все больше думает. Думает, бывало, думает, а в конце концов поступает, как все остальные, потому что мысли его все равно что спутанный клубок ниток, в котором ему никак не удается отыскать конец.
Он понимает, что, если его возьмут, он должен ехать. Но ему, видите ли, непременно надо знать — зачем да почему; из газет он вычитал, что война в Испании идет между коммунистами и фалангистами, что коммунисты — злейшие враги короля, народа и святой церкви и что он, Микеле Антоначчи, может сделать доброе дело — и разделаться с долгами, и послужить своему королю.
По пути они встречают приятелей, часть их уже одета по-военному, остальные, как и он, Микеле, в черных рубашках.
Перед тем как войти в помещение секции, они выстраиваются перед входом и ждут. Кто-то провозглашает:
— Дону Примиано — хэйя, хэйя, хэйя!
И Микеле отвечает:
— Алала! — сплетая свой голос с голосами товарищей; и этот зычный выкрик, в котором есть и его, Микеле Антоначчи, доля, на миг наполняет его ощущением силы.
Обе комнаты секции ярко освещены; из первой комнаты, через открытую дверь, виден стол и сидящий за ним дон Примиано, он ведет беседу с их священником, доном Паскуале Минадео.
Дон Паскуале говорит:
— В Гвардиальфьере народ крепкий, молодец к молодцу, вот увидите, они все захотят поехать.
Дон Примиано, продолжая начатое:
— А на днях господин консул и говорит мне: «Для укомплектования второй центурии необходимо еще тридцать человек». — «Да, но где их мне найти?» — спрашиваю. А он: «Поезжайте в Монтелонго». Я смеюсь: «Нет уж, говорю, поеду-ка я лучше в Гвардиальфьеру; Гвардиальфьера всегда вносила щедрую лепту». Это его убедило.
Секретарь секции говорит:
— Когда прошел слух, что есть возможность отправиться в Испанию, многие горевали, что о нас никто и не вспомнит. Однако ваш любезный приезд лишний раз говорит нам о том постоянном внимании, какое наверху проявляют к нашим нуждам.
Священник кивает с подобострастной улыбкой и, молитвенно складывая руки, негромко, но, как всегда, с пафосом, говорит:
— О, эта земля всегда в изобилии рождала воителей господа бога и защитников святого дела.
Дон Примиано делает часовому знак — впустить, и ожидающие крестьяне и мастеровые входят, весело возбужденные, толкаясь, напирая друг на дружку, каждый норовя попасть в первый ряд.
Майор встает, жестом велит замолчать группе парней, которые, отчаянно фальшивя и перевирая текст, рьяно поют «Джовинеццу»[9] и начинает говорить, молодцевато подтянув ослабшую портупею:
— Соратники! Еще раз за эти несколько месяцев вас призывают показать свой боевой добровольческий дух. — Раздается гром аплодисментов. — Дуче говорил… — Снова раздается гром аплодисментов, а сапожник Анджело выкрикивает что-то длинное-длинное, но в шуме рукоплесканий его никто не понимает.
Поскольку аплодисменты показывали, что присутствующие поняли все то, что он собирался сказать, дон Примиано воодушевился и до предела сократил свою речь, решив, что изложил все достаточно ясно, и по достоинству оценив исключительную понятливость своих слушателей.
Когда он сел, ему ответили бурей приветственных возгласов.
Прибывший вместе с ним лейтенант вынул из кармана лист бумаги, карандаш и скомандовал:
— Желающие ехать — шаг вперед!
К столу ринулось сразу человек двадцать крестьян. Это были совсем еще молодые или едва успевшие возмужать парни, с крепкими, почернелыми на солнце телами и с тусклым взглядом, теперь, когда они перестали кричать, вновь принявшим извечное выражение глухой тоски.
— Имя, фамилия?
— Джовани Селла!
— Срок службы?
— Два с половиной года!
— Следующий!
— Карло Сфанути!
— Джакомо Менна!
Микеле все никак не удавалось протиснуться вперед; и сейчас он делал слабую попытку пробиться сквозь эту стену тел, преграждавших ему дорогу. Подошедший Анджело взял его за плечо и тихо сказал на ухо:
— Предоставь это мне; а ты стой, не уходи.
Записалось уже двадцать девять человек, а желающих оставалось не менее пяти; но в этот момент сапожник Анджело пулей выскочил в первый ряд и с ходу крикнул:
— Меня! — И одним духом гордо отрапортовал: — Анджело Лафратта, год рождения тысяча девятьсот седьмой, год десять месяцев действительной службы, Абиссинская кампания, бронзовая медаль!
И, вернувшись к Микеле, сказал:
— Никуда не уходи, подождем, пока разойдутся… Теперь ты видел, как надо?
Когда все удалились, он что-то шепнул на ухо Микеле и подошел к столу, где лейтенант уже переписывал список набело.
Лейтенант поднял голову и поглядел на него с хитроватой улыбкой.
— Вот тут один мой друг, — начал Анджело, — ему бы тоже хотелось поехать…
— Понимаю, да только мест больше нет, — бросил тот. — Нам требовалось тридцать человек, мы их набрали.
— Как же быть? Ему так хотелось поехать, человек он семейный и весь в долгах.
— Все люди семейные, у всех, кого мы взяли, есть дети.
— Так, значит, — проговорил Анджело, подмигнув незаметно от Микеле, — значит, помочь нельзя?
— Помочь можно, при условии, если ты уступишь ему свое место.
Микеле слушал обоих спокойно, будто разговор шел вовсе не о нем; его только удивляло, к чему нужна эта болтовня, раз Анджело все специально устраивал.
— Так и быть! — воскликнул Анджело, — Только ради дружбы! Люблю услужить человеку. Решено — я не еду! Можете брать его.
— Маленький он больно, — лукаво заметил лейтенант.
— Хоть и маленький, а на последней комиссии меня признали годным. А в армии я не служил как единственный сын у матери-вдовы. — Микеле вынул из внутреннего кармана рубашки свое свидетельство.