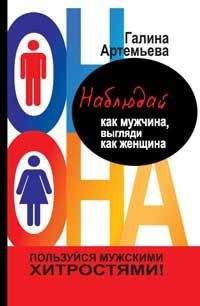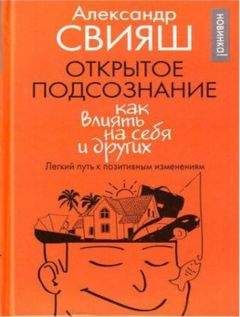Васко Пратолини - Итальянская новелла ХХ века
— А тебя это не касается, — проговорил маленький цирюльник, угрожающе привстав.
— Вот, полюбуйтесь, — завопил сапожник, призывая всех в свидетели. — Потом на меня говорит. А я — что? Я никого не трогаю. Я просто рассуждаю; мне, может, нравится рассуждать, потому как у меня есть голова на плечах. А если у кого мозгов не хватает, чтобы дела свои устраивать, так при чем туг я?
— Ты всегда в мои дела лезешь. Кто тебя просит? Я лезу в твои, скажи?
В холодных глазах сапожника загораются злорадные искры, он сжимает кулаки. Микеле охватывает бессильная ярость: он знает, что ему быть битому.
Его жена на балконе быстро встает и, перегнувшись через перила, кричит сидящим внизу:
— Э, да что с вами, красавчики?
Все поднимаются, стиснув зубы. Джузеппе Спина хватает сапожника за грудки и с силой трясет его:
— Чертово семя, посидеть спокойно нельзя!
С минуту мужчины молча, с мучительным напряжением глядят друг на друга, дыша так тяжело, что ноздри у них раздуваются.
Вдруг балконная дверь хлопает, Розальба исчезает. Все оборачиваются, и в этот момент стекло в балконной двери внезапно меркнет.
— Солнце садится, — говорит Джузеппе Спина.
Гора Спасителя встает заслоном между небом и солнцем.
— Вечно эта грызня… что мы только за люди такие… — продолжает Джузеппе.
Небо вдруг делается густо-синим, и тут же, словно по сигналу, смолкают цикады.
Не говоря больше ни слова, вся компания вновь присаживается на груду камней. Сапожник не спеша скручивает из газеты цигарку и закуривает. В тесном кругу жадно вдыхающих людей разливается терпкий запах крепкого табака, и Джузеппе Спина достает свою трубку.
Он берет ее в рот и несколько раз с силой посасывает, проверяя, хорошо ли она тянет.
— Дал бы на закурку, Анджело…
Сапожник секунду медлит, затем достает из кисета щепотку темного, почти черного табаку и протягивает ее Джузеппе Спина.
Еще двое крестьян достают трубки.
— Нет у меня больше, — раздраженно говорит им сапожник. — Свой надо иметь!
Оба разочарованно пожимают плечами.
— Дай им, Анджело, — просит за них Джузеппе Спина, — Что для тебя щепоть табаку?
— И верно — ничего, — подхватывают оба. — Ты ведь у нас богатей.
Поддергивая брюки, сапожник говорит с хвастливым самодовольством:
— Я всем помогаю, чем могу, — и оделяет каждого табаком. Все прикуривают и с жадностью затягиваются.
— Сколько денег не сей — урожая не будет, — вздыхает Шаррито.
Сапожник разводит руками и говорит веско:
— В мире-то денег — пруд пруди, только сюда они не доходят. Никакой торговли здесь нет! У нас все дороги кончаются. Хорошо жить там, где люди ездят взад-назад. Деньги, они ведь, как колеса — круглые. Ты им дорогу подавай, — И покровительственным тоном, обратившись к Микеле, продолжает: — В дороге людям побриться надо: все, кто разъезжает на грузовиках и в машинах, всегда гладко выбриты. Будь у тебя цирюльня где-нибудь на проезжей дороге, ты б от клиентов и отбою не знал; в два-три года уплатил бы все долги, что наделал из-за дома. Все свои шесть тысяч; где есть торговля, там с твоим ремеслом их в два счета сколотить можно. А здесь, здесь тебе, чтобы расплатиться, придется дом продать.
— Вот бы еще такую доходную войну, как твоя!.. Да где там… такое везение раз в жизни бывает, — горюет Шаррито.
— А война и теперь есть, — спокойно отвечает Анджело, — Да ведь места у нас неторговые, вот и не слыхать про нее.
— Враки, — возражает Микеле, — Когда война, про то всегда слыхать.
— Я знаю, что говорю; война есть, только про нее говорить нельзя, вот потому и не слыхать ничего. Да я на днях в Ларино был и видел там людей, которые уже отправляются на нее.
— А сколько им платят? — любопытствует Микеле.
— Чего не знаю, того не знаю. Только не как в Абиссинии; эта война вроде поближе; но мне говорили, что плата приличная… Да тебе-то что за дело? Тебя и не возьмут — ростом не вышел.
— Брось, я на той войне видел и поменьше его; а один, вот такой же, как он, даже капралом стал, — вступается Винченцо.
— Вот и я говорю, — подхватывает Микеле. — Рост тут вовсе ни при чем, было б желание.
Некоторое время они сидят молча, покуривая, наслаждаясь свежим ветерком, которым потянуло с долины реки, когда смерклось.
— Сейчас бы винца стаканчик, — вздыхает Джузеппе.
— Тут целая лира нужна. А где ее возьмешь? — отвечает до сих пор молчавший Марко Пьетра.
— Одного побрить — как раз лира, да вот только некого.
— Анджело, а тебе почему бы не побриться? — спрашивает Джузеппе Спина.
— Я бреюсь по воскресеньям, а нынче — пятница.
— А то — смотри; я бы тебе хорошо сделал — два раза против волоса, хватило бы до следующего воскресенья.
— Хватило бы, говоришь? — колеблется сапожник.
— Вот, клянусь. И обошлось бы дешевле, ведь и ты бы стаканчик выпил. Прямая тебе выгода.
— Выгода есть, верно. Да дело не в этом… Ну, ладно: вот тебе сейчас лира, а побреешь меня в воскресенье… По воскресеньям я надеваю все чистое, и приятно, когда ты гладко выбрит.
Приносят вина, наливают каждому по стакану, не торопясь начинают пить.
— Отличное винцо! — причмокивает Марко Пьетра, — Жаль, маловато!
Анджело пьет медленно, смакуя каждый глоток, и все глядит на балкон; и вдруг затягивает:
Пой песню, устали не зная,
Дорога в Абиссинию крутая…
И словно песня сапожника — призывная серенада, в бледный вечерний сумрак вдруг отворяется балконная дверь и пронзительный женский голос подхватывает:
Все окна распахнулись широко,
Все девушки влюбились горячо…
А когда следом появляется сама Розальба, мужчины окончательно веселеют. Анджело хлопает Микеле по плечу и говорит ему на ухо:
— Хочешь поехать в Испанию — положись на меня. Сегодня из Ларино должен приехать дон Примиано.
— Сам дон Примиано?
— Вот-вот. Мне вчера сказали об этом в Ларино; я поговорю о тебе, и он тебя возьмет; побудешь там годик, другой и со всеми долгами разделаешься. А продашь дом — Розальба твоя помрет с досады…
В этот момент издалека, со стороны долины, доносится неровный — то громкий, то еле слышный — треск мотоцикла; звук нарастает, наполняя дрожью хрупкий вечерний воздух.
Все замирают, прислушиваясь.
— Окружной комиссар едет, — раздается в тишине голос Марко.
Микеле даже встает, словно приезд — для него неожиданность; потом говорит тихо:
— Он каждую пятницу приезжает, этот окружной комиссар…
Ночь опускается звездная, полная звона кузнечиков, в домах слышатся голоса возвратившихся с поля людей.
Горячую пищу Розальба и Микеле едят, по обыкновению, в полдень. На ужин берут что-нибудь легкое, вроде салата из помидоров с хлебом; своей дочурке дают тюрю на сыром молоке от козы деда, которую тот, привязав к седлу своего осла, каждое утро приводит с собой в деревню. Розальба — дочь исконных крестьян, но деревенскую жизнь она не любит, ей всегда по душе была чистая работа и городские манеры.
В ее новом, сверкающем белизной домике пока еще пустовато, и по вечерам по нему не разливается привычный запах жареного чеснока или перца; на потолочных балках не висят связки лука, а возле печи не солится тыква. Но на кухне у Розальбы есть небольшой шкафчик, а в нем — сверкающие лаком жестяные коробки; коробки, правда, еще пустые, зато каждая со своей надписью: «соль», «перец», «кофе».
Как и всюду у деревенских, они сидят, отодвинувшись от стола, едят неторопливо, с каким-то печальным благоговением: Розальба еще не научилась сидеть за столом, по-хозяйски опершись на него локтями, наклонив вперед голову — чтобы чувствовать запах того, что ешь. Она тянется к миске точно так же, как испокон веку делали все ее предки; ее руки знают, что скупая земля родит эту пищу по крошке, а потому и по капельке нужно есть ее.
Но это не мешает Розальбе цвести и хорошеть день ото дня; и у Микеле, наблюдающего, как она жует, такое впечатление, будто каждый кусок у нее тут же, на глазах, превращается прямо в кровь — до того румяны у нее щеки, нежна и шелковиста кожа; вся она наливается, точно сентябрьская виноградная гроздь после первых ливней.
Розальба только и знает, что хорошеть да смеяться; говорит она мало, а когда говорит, слова употребляет самые что ни на есть простые, такие же ленивые и вялые, как сами ее мысли; зато смеется она заливисто, со всхлипами, от которых все ее тело колышется. А Микеле всякий раз, как жена смеется, всем своим худым маленьким тельцем чувствует, что никогда у него не хватит сил стать ее хозяином, подчинить ее.
Только сейчас Розальба не смеется. Она слушает мужа, который рассказывает ей о приезде из Ларино дона Примиано. Он говорит ей, что не прочь бы поехать в Испанию; если плата будет хорошая, они смогут заплатить все долги и купить для своей цирюльни большое зеркало, а еще — винтовое кресло, какое он видел однажды в Ларино у тамошнего дамского мастера Умберто.