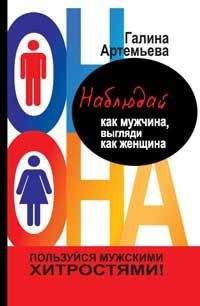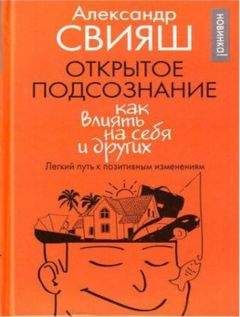Васко Пратолини - Итальянская новелла ХХ века
Днем он часто спрашивал себя: «Правда ли, что я мошенник? Разве может мошеннику сниться, что он честный человек? И разве может он радоваться этому так, как радуюсь я? Разве может он чувствовать себя при этом счастливым до глубины души? Должно быть, честность дремлет днем в недрах моего существа, а ночью она пробуждается и переполняет меня высшим блаженством».
Теперь он укладывался в постель все раньше и раньше, а по утрам никак не мог решиться встать.
— Гуалтьеро, уже девятый час, тебе пора на фабрику, — говорила ему Эсмеральдина, которая не могла объяснить себе непонятное поведение мужа.
Когда жена предлагала Монтесоли пойти в театр или в кинематограф, он отвечал: «Так хорошо в постели!» И он изредка уступал ее просьбам только потому, что она говорила с упреком: «Что ж получается, ты не хочешь, чтобы твоя жена хоть иногда могла немного развлечься?» Сам Монтесоли нисколько не развлекался, он нетерпеливо ожидал часа, когда можно будет вернуться домой и лечь спать.
Для того чтобы спать дольше и крепче, Монтесоли завел привычку каждый вечер принимать таблетку веронала.
— Он нажил себе бессонницу, работая на других и думая об их делах не только днем, но и ночью, — жаловалась Эсмеральдина, — и вот теперь вынужден принимать веронал, чтобы спокойно выспаться.
Бухгалтер Монтесоли был счастлив от того, что ему снилось, будто он по-прежнему сохраняет непоколебимую честность и свою вошедшую в поговорку незапятнанную репутацию глубоко порядочного человека. Ему снились все новые и убедительные доказательства этого, как будто какое-то невидимое и сверхъестественное существо стремилось подвергнуть его всякого рода испытаниям с тем, чтобы вновь и вновь выявлялась незыблемость и прочность его моральных устоев. Будь это в его власти, он бы не поднимался по утрам, — чтобы больше не воровать. Потому что он продолжал воровать, лишь подчиняясь силе инерции, силе, которая, очевидно, существовала где-то вне его и повелевала им: она была сродни той силе, что заставляла его видеть по ночам сны, и противиться ей было невозможно. И он с нетерпением ждал часа, когда стемнеет, когда можно будет лечь в постель и уснуть, он даже старался делать это как можно раньше.
— И зачем только ты принимаешь эти проклятые лекарства? — выходила из себя его жена. — Ведь ты уже больше не страдаешь бессонницей. Ты только и делаешь, что спишь, — продолжала она с раздражением, — весь тюфяк пролежал!
— Спать так хорошо! А ты, Эсмеральдина, разве не любишь поспать?
— Разумеется, я тоже люблю поспать, но в меру. Если и дальше будет так продолжаться, мы превратимся в сурков.
— Я так чудесно себя чувствую, когда сплю…
Однажды вечером на ночном столике бухгалтера Монтесоли оказалась непочатая коробочка веронала — десять таблеток. И когда он проглотил первую таблетку, как это уже вошло у него в привычку, то подумал о том, что, приняв все остальные, он навсегда станет честным человеком, вечно будет пребывать в заоблачной выси, залитой ярким светом, немеркнущим светом, которого у него никто уже не отнимет, и его уделом станет блаженство, недоступное ни одному богачу, блаженство, которого, быть может, никогда не испытал ни один богач… И Монтесоли стал глотать таблетки — одну за другой.
Марино Моретти
Потухший очаг
Целыми днями старуха сидела на каменном выступе очага под навесом, как олицетворенная скорбь. Напрасно ее уговаривали пересесть, она никого не хотела слушать, даже мужа; и тот, с платком, торчащим из кармана, жалкий, растерянный, бродил по комнатам, прося старый дом дать ему немного покоя, того покоя, которым старик похвалялся прежде, говоря, что он, мужчина, умеет поступать разумно. Едва встав, мать садилась к очагу; примостившись на выступе, съедала ломоть хлеба, а когда наступало время ложиться спать, смотрела на очаг взглядом, в котором была просьба о прощении, да, она просила прощения у большого очага.
Днем приходили соседки. Одни, не заговаривая со старухой, подвигали стулья, без приглашения садились напротив нее, вздыхали, сочувствуя ее горю. Старуха молчала, гостьи поглядывали на нее и вздыхали. Другие, умудренные опытом, заходя, без стеснения принимались жаловаться, расспрашивали, негодовали, восклицали; говорили про войну: кто ее затеял и кому от нее выгода, когда война кончится и чем кончится, как жить потом и куда все идет; молились, сетовали на невзгоды, пересказывали друг другу, что думает и что советует бакалейщик с соседней улицы и священник сан-симонского прихода. Они верили, что слова развеют ее немое горе, и хотели показать, что сочувствуют ему. Но старуха не слышала разговоров и, казалось, не замечала женщин; она сидела неподвижно: губы тесно сомкнуты, взгляд устремлен в одну точку. На что она смотрела? На решето, подвешенное над кухонным столом; на решето и веник, но даже их она не видела. За стенами кухни и дома, за реками и горами она видела застывшим взглядом тот берег реки и ту вершину холма, где были ее сыновья: оба солдаты, оба на передовой, в траншеях, рядом с пушками и пулеметами. Сейчас возле пушек осталось двое ее сыновей, а было их четверо. Да, четверо сыновей, и все на войне. О четырех солдатах много говорили кругом, другие матери смотрели на нее с жалостью и состраданием. Бывало, кто-нибудь из мужчин, какой-нибудь патриот, хвалил ее за спокойствие, за присутствие духа, мужество, мать отвечала, улыбаясь: «Да уж верно, четверо сыновей. Вроде бы и я с ними. Куда мне без детей?» Лицо ее было ясно; веря в бога, она надеялась, что ее дети останутся невредимыми: слишком велика жертва, которую она принесла ему. Другое дело, если бы родина забрала у нее одного, тогда бы она испугалась. Она бы места себе не находила от страха, тревог и беспокойства. А за четверыми бог присмотрит, обережет их и от пули, и от страшной шрапнели. Иногда ее беспокоило, что все дети неверующие, даже Чезарино, младший, тот самый, что до шестнадцати лет носил ладанку с мощами. Все четверо «свободомыслящие», а один, как раз Чезарино, убежденный социалист. Что поделаешь! «Господи, — говорила она в тревожные минуты, — пожалей моих мальчиков, пожалей моего Чезарино. Разве он виноват! Это не он, это всё приятели, они его научили. Ведь ты, господи, знаешь: в этой проклятой Романье взрослые мужчины не ходят в церковь. А если кто не социалист и не республиканец, ему не выбиться в люди. Сейчас ничего этого нет, сейчас война. Заступись за всех, господи. Спаси нынче их тело, как завтра спасешь их души. Молю тебя, боже, пощади моих мальчиков».
Так она молилась, не отводя взгляда от язв распятого Христа, и ей казалось, что он ранен в сражении, как итальянский солдат.
* * *Чезарино погиб в сражении при Марчезине, а вскоре пришло известие о смерти другого сына. Тогда она села на каменный выступ очага.
Старик бродил по дому с огромным платком, торчавшим из кармана. Старуха глядела на него равнодушно, чаще не глядела вовсе. Подавленная горем и скорбью, она не желала думать о тех, кто тенью проходил мимо, и ясно показывала это мужу и соседкам. Старик не вызывал в ней жалости. Властная по натуре, она всегда была главой семьи, хозяйкой дома: держала ключи, распоряжалась деньгами, принимала решения. Муж, легкомысленный в молодости, в старости стал немощен; старуха обращалась с ним как с ребенком, пятым ребенком в семье, единственным, как, посмеиваясь, говорили соседки, которого не взяли на войну. Потому он и не смел донимать ее просьбами; впрочем, она, непреклонная в своем горе, и не подумала бы их слушать.
Но однажды она его позвала. Взволнованный и заботливый, он, прихрамывая, подбежал и застыл на нетвердых ногах в почтительной и ожидающей позе, точно собираясь опуститься перед ней на колени.
— Я хочу, чтобы ты сходил за одним человеком, — сказала она бесстрастно и жестко.
— Да, да, конечно, а за кем?
Не ответив, она опустила веки, словно слишком поспешный и, может быть, заданный не без любопытства вопрос задел или оскорбил ее.
— Кого, кого позвать? Куда мне сходить?
Молчание продолжалось долго, волнение старика росло, одышка его перешла в сдерживаемое всхлипыванье; наконец, мать подняла веки, пристально взглянула на него и произнесла имя:
— Лавиния.
Старик, растроганный, воздел руки к небу, словно восхваляя господа за ниспосланную благодать.
— Да, да, и Лавиния поплакала, бедняжка, ей тоже пришлось нелегко. В несчастье надо быть вместе, не надо ненавидеть друг друга… И я тебе правду скажу, Лавиния не дурная женщина…
Старуха опустила веки: старик говорил слишком много. Он сам почувствовал, что сказал лишнее, и осекся; из глаз у него текли слезы, руки дрожали, даже щуплые ножки дрожали. Умолкнув, он отер глаза огромным платком, издавна осушавшим его слезы, отыскал приплюснутую шляпу с лентой, порывистым движением надел ее, еще раз улыбнулся и вышел.