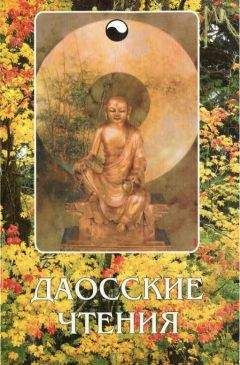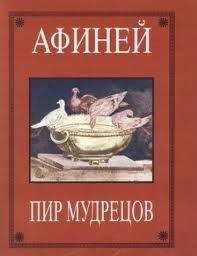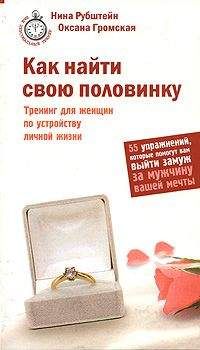Геннадий Прашкевич - Русский хор
«Никто не смеет стрелять по неприятелю через корабли Его Величества, которые случайно попадут между неприятельскими и своими. Никто так поступать не смеет под штрафом отнятия чина, ссылкой на галеру или потерянием живота своего по рассмотрению дела. Под таким же штрафом не стрелять по неприятельским кораблям, у которых уже флаг спущен…»
«А коли свой испугается?»
«В этом едино: смертью казнить».
36.
Вот оно.
«Смертью казнить».
В девяносто восьмом молодых стрельцов, крапивное семя, во внимании к их возрасту пожалел, смерть отменил, они и выросли в памяти того, что было. Мало им резали ноздри, срубали уши, клеймили раскаленным железом, мало кричали в беспамятные от боли глаза: вот зри, зри, будешь совсем новый человек, даже форма ушей будет иная. Кавалеры в париках, в цветных шелковых и бархатных кафтанах, в треуголках, в чулках и башмаках с пряжками — разве не новый человек? Каменный дворец с высокими окнами — разве изба с дымною печью? Не хотите принять — заставим. Отрыжка смертная, колесо с петлей, вонь подпаленной шкуры, все так, но ты на пышные букли смотри! Ты на высокие ботфорты смотри, на росписи стен, на зеркала в простенках, на восковые свечи, чудные немецкие приседания, эхо сладостных комплимантов. Сам каждого проверял, от каждого требовал: докажи! Перед каждым ставил по преступнику: внятно произнеси приговор и обезглавь виновного. Князь Ромодановский первый доказал верность — умертвил тяжелым топором четырех стрельцов. Алексашка Меншиков, князь светлейший, и того больше — отрубил двадцать голов. Князь Голицын оказался несчастливым, рука дрогнула, неловкими ударами значительно увеличил страдания им же осужденного, но доказал, доказал — верен.
«Аще беззакония назриши, Господи, кто за мной постоит?»
Феофан Прокопович умно подсказал, сочиняючи духовные стихи.
Так подсказал: в голову другого человека тоже проникнуть можно. Не чернь, а куртаг восторженных христиан, вот к чему мы стремимся. Конечно, священник не смеет нарушить тайну исповеди, но ты, государь, помазанник божий, ты прямая связь с небом. Новый человек светел и един, государство не гошпиталь для уродов. Вот доносят уже о поносных песнях. Поют в них будто о сыне и об отце. Поют о том, что отец сына на смерть отринул. Знают, знают прекрасно, что песня сочинена еще при Иоанне, прозванном Грозном, но что с того, поют.
Глядел на медленно бледнеющего Зубова-младшего.
В семьсот тринадцатом зоон царевич Алексей вернулся из-за границы — лицо длинное, просветленное, парик в буклях. С вниманием спросил зоона: «Не забыл, чему учился?» Царевич смиренно ответил: «Не забыл», а глаза испуганны, в первозданной дикости выцвели от испуга. Так для чего ж был отправлен? Вина пить, слушать музыку? С терпением каждого поднимаешь над болотом — терпи, терпи, вот Парадиз твой, свет ясный, высокий, а они прыгают обратно в болота, в испарения, прячутся. «Ну принеси свои чертежи». А чертежей не было. Были вина красные и белые, музыка сердечная, книги будто бы мудрые, и все — ничего больше.
Немигающими глазами смотрел на Зубова-младшего.
Впредь всех дураков казнить. Из дурака умный не вылезет.
А в семьсот четырнадцатом зоон царевич Алексей уже сам в страхе без спросу выехал в Карлсбад, будто бы чахотка открылась. Но не болезнь, а страх, только подлый страх, слабость душевная гнали царевича. Кикин, денщик бывший, подсказал: «Беги, беги, тебе отец голову срубит». В Карлсбаде царевич пил неумеренно, вчитывался в старые церковные летописи, делал выписки. Когда позже на пытках спросили, что значат найденные в его бумагах выписки из римского ученого Варрона, зоон ответил: «Это желание видеть, что там прежде было не так, как теперь делается».
Вдруг явственно показалось, что перед ним — зоон!
Нет, не царевич. Он так смотреть не умел. И руки держал по-другому.
Мы дня не упускаем, чтобы заглянуть куда в Адмиралтейство, постучать топором, прикинуть умный чертеж, поспорить с Казанцем или с Федосом Скляевым. «Mein Her captein un Fader». Они давно мастера, а государь для них и отец и шкипер.
Темно на душе, тяжесть большая, когда в наследнике не находим сочувствия.
И не потому не находим, что наследник глуп, а потому что труслив, любые военные занятия ему противны. Не осознает, что военная сила — главная опора благосостояния народа, не осознает, что в государстве главное то, что нравится самому государю. Специальное «Объявление» зоону написал. Закончил словами: подожду немного, а ежели не станешь другой, как член, пораженный гангреной, отрежу. Тогда-то бывший денщик Кикин и подсказал царевичу отказаться от престола, а глупый князь Долгорукий Василий Васильевич поддакнул. Где же надежные? Где? Мы строим, призываем, калечим и возвышаем, где вы, надежные, почему не рядом, почему не подставляете крепкое плечо? Вот и зоон ответил, что отказывается от наследства: умом темен, управлять народом не может, военный мундир ему ненавистен, а мила красная фризовая куртка и белые холщовые штаны. Напомнил сыну: тебя, зоон, большие бороды все равно принудят делать по-своему. Добавил: а нам? Как без тебя? Как строить новых людей из грибов поганок? Всяк человек — ложь, то еще Давид сказал. Зоон, помогаешь ли ты в трудах наших и печалях? Нет, не помогаешь. А времени больше нет. Или сделай себя нашим наследником, или иди в монахи.
37.
Ходил по морю на весельном боте.
Зимой приказывал прорубать в замерзлой Неве канал.
По этому каналу и зимой катался на катере, сам работая веслами.
Зоон, зоон, писал царевичу Алексею. Услышь, времени больше нет, незамедлительно иди в войско к нам или сядь в какой монастырь. Нет отклика. Никакого. Потому грешен. Поверил, а царевич вновь обманул, что вот-де едет в Кёнигсберг, а появился в Вене вместе с крепостной девкой Афросиньей, с братом ее и тремя слугами. Через вице-канцлера Шенборна просил у цесаря покровительства, жаловался на отца. В замке Эренберг в Верхнем Тироле по дороге от Фюссена к Инсбруку содержал при себе ту простую крепостную девку, она носила мужское платье. Вице-канцлеру жаловался, что не сам, не сам, это светлейший князь Меншиков его к дурностям пития приучил. Думал и далее остаться в замке, но прибыл в Вену чрезвычайный посланник государя — Пётр Андреевич Толстой. Голос добрый, движения мягкие, брови черные, густые, торчат вперед. Передал письмо от государя. В письме главное: вернись! «Обнадеживаю и обещаюсь Богом и судом Его, что никакого наказания не будет, но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. А ежели послушания не проявишь, то, яко государь твой, за изменника тебя объявлю». И Пётр Андреевич Толстой голосом вкрадчивым, добрым подтвердил: вернешься — будешь жить в тихих своих деревеньках, женишься на девке Афросинье, как тебе хочется. А не вернешься — отец войной тебя отвоюет.
Уговорил, убедил вкрадчивый Пётр Андреевич — царевич вернулся.
Третьего февраля в кремлевских палатах собралось духовенство и светские чины, явился государь. Зоон, зоон. Ввели сына в залу без шпаги, на коленях признал себя виновным, отказался от прав на престол, выдал помощников и радетелей. А после этого уже в Успенском соборе перед Царскими вратами, положив руку на Евангелие, окончательно отрекся от всех прав на русский престол. «Желаю монашеского чина». Что было ответить? «Это молодому человеку нелегко, одумайся».
Кто виновен в таких сомнениях царевича?
Да бывший денщик Кикин — главный советник к побегу.
И камердинер Иван Большой Афанасьев. И бывший учитель Вяземский. И Нарышкин Семён, и князь Долгорукий Василий, и тетка родная Мария Алексеевна. Все далеки от новых людей. Знал зоон, хорошо знал, что с ними со всеми станется, но на каждого показал. Страшно ломали бывшего денщика в Преображенском приказе. Зоон, зоон, ну почему глуп? Видел же ранее ломаные руки и ноги, обвислых людей на колах и виселицах. Лучше быть здоровым во цвете лет, жить новой подвижной жизнью, не среди попов и мечтателей, разве не так? Истерзанный Кикин на колесе стонал, молил отпустить душу на покаяние. Пожалев, приказал отрубить голову бывшему денщику и выставить посреди площади.
Жгли огнем майора Степана Глебова, имевшего тайную любовную связь с бывшей женой государя Евдокиею, всего обожженного посадили на кол. Был майор жив целый день и всю ночь и умер только перед рассветом, немало распотешив зевак своими страданиями. Колесовали упрямого ростовского епископа Досифея, за то что поминал Евдокию царицею, пророчил ей сладкое будущее. Казнили духовника Евдокии, наказали кнутом монахинь, угождавших ей. А когда привезли в Петербурх крепостную девку Афросинью, с которой царевич Алексей свалялся еще до побега в Вену, та в смертном ужасе показала, что зоон писал цесарю жалобы на отца. Еще показала, что зоон писал русским архиереям, чтобы они письма эти срамные подметывали в народе, даже показала, что ждал зоон смерти отца или бунта.