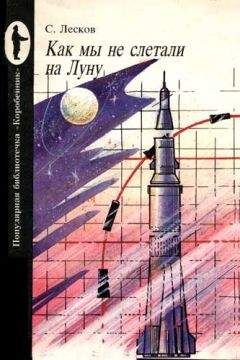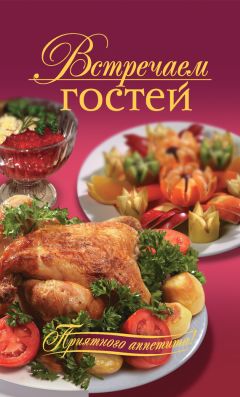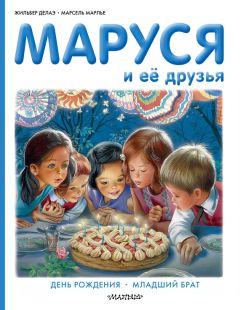Андре Пьейр Де Мандьярг - Огонь под пеплом
Прошло какое-то время, мне показалось — совсем немного, потому что я совершенно ушла в себя, я чувствовала себя одинокой и униженной, и мне было от этого так спокойно на душе; лампы снова зажглись. Гроза удалялась, дождь перестал или утих; гром рокотал едва слышно. Я стряхнула оцепенение тела и духа, я хотела подняться до уровня моего любовника, вернуться в совместную жизнь. Проще сказать, я забралась к нему в постель и обняла его.
Он встретил меня неласково, хотя ни в чем не упрекнул. Я увидела, что он так же далек от меня, как перед тем далека была от него я, и что настолько же, насколько я погружалась в тихое самоуничижение, он провалился в бесчувствие опьянения, отгородившись им от любви и находя в нем некое блаженство. Напрасно я старалась растормошить его, напрасно словами и ласками пыталась восстановить утраченную связь. Кончилось тем, что он грубо схватил меня за руку, столкнул с постели, потом велел поживее одеваться и выметаться из комнаты, он сказал, что я могу отправляться куда мне будет угодно, могу, если мне захочется, отдаться первому встречному, могу делать все, что мне заблагорассудится, все, что взбредет в голову, лишь бы я убралась и оставила его в покое с его тростниковым пойлом. Думаю, он взбесился бы, если бы я не послушалась, потому что он, как многие наши мужчины, по натуре был сутенером, для них навязать вопреки всему свою волю — вопрос чести. Ну так вот: я одевалась как можно медленнее, стараясь все же не дразнить его; я надеялась, что какая-нибудь машина появится раньше, чем я соберусь, ему придется идти отпирать комнату, это рассеет его дурные мысли, и, вернувшись, он если и не помирится со мной, так хоть не прогонит. Зря старалась. Должно быть, дождь остудил пыл влюбленных, и, хотя час свиданий давно пробил, ни одна фара и ни один клаксон не пришли мне на помощь. К тому же вся моя одежда состояла из трусиков, лифчика, юбки и блузки почти без застежек, я была без чулок, потому что носила индейские сандалии, из-за ремешка между пальцами их можно надеть только на босу ногу, так что мне трудно было очень уж затягивать одевание. А он еще и подгонял меня между двумя глотками из почти опустевшей бутылки. Тогда я завернулась в шаль из грубой шерсти и, как побитая собачонка, вышла через ворота гаража.
Дождь перестал лить, но тупик мотеля был затоплен, он превратился в грязную канаву, по которой я шлепала, беспомощно барахталась, пробираясь к выходу среди шатких камней, качающихся досок, железок и обломков цемента. За воротами я увидела стоявшие на дороге лужи темной воды, сломанные ветром ветки, усыпавшие мостовую и тротуары. Ничего удивительного в том, что город был безлюден в такой ранний час. Я жила довольно далеко. Вместо того чтобы идти большими улицами — это намного удлинило бы путь, — я свернула в ту, что вела напрямик через считавшийся опасным квартал, куда Луис не позволял мне заходить в темноте. До сих пор я его слушалась, но теперь, раз он так со мной поступил, запрет потерял силу, решила я.
Большую часть пути я прошла, не встретив ни души. Поначалу я из осторожности держалась середины мостовой, но она была так изрыта, такие глубокие стояли на ней лужи и такое скверное было освещение, что вскоре я вернулась на тротуар, который был таким же неровным, но довольно высоким и относительно сухим. Я шла мимо убогих домов, было темно, свет падал лишь из дверных проемов жалких баров, загороженных двустворчатыми ставнями, так, что головы и ноги посетителей оставались на виду, да еще из витрин лавок, торговавших одними только дешевыми похоронными принадлежностями. Потому что в этом бедном квартале те, кто наживается на смерти — то ли из гордости за свой прекрасный товар, то ли стремясь напомнить прохожим об участи, ожидающей каждое живое существо, а может, даже и с тем, чтобы подстрекнуть убийц, — на всю ночь оставляли гореть свет в витринах. Я слышала, что они в сговоре с проститутками, которые бродят поблизости или сидят в двух-трех тавернах, в виде исключения предназначенных не только для мужского пьянства. Толком не знаю. Хорошо известно, что сильнее всего мужчину тянет к шлюхам, когда он думает о собственной смерти или о кончине родных.
На высоте больше двух тысяч метров ноги быстро устают, и я остановилась передохнуть у одной из таких витрин, где черные и розовые гробы дремали под пальмами и банановыми листьями, словно большие сонные рыбы среди водорослей на дне аквариума. Усиливая сходство, свет, словно пробиваясь сквозь мутную воду, просачивался через грязноватое стекло, на котором я прочла гордую (или тщеславную) надпись: «Гробы Виргула ставят последнюю точку!» Как ни грустно мне было, невольно я улыбнулась, и тут-то этот человек схватил меня за руку.
Я не заметила, когда он вышел из магазина, но еще качалась маленькая дверь, к которой с тротуара вниз вели ступеньки. Он что, подстерегал меня, спрятавшись в лавке за большими листьями? Вполне возможно. Я и не думала кричать — я была в таком отчаянии, что уже ничего на свете не боялась, и потом, в нем не было ничего особенно пугающего. Я знала Педро Виргулу, торговца гробами, по крайней мере — в лицо, как знали все обитатели и большинство завсегдатаев его квартала, проходившие мимо лавки: женщинам он неизменно отпускал цветистые комплименты. Уже немолодой, скорее даже старый, но бодрый, с длинными висячими усами, толстогубый, с маленькими мутными глазками под неестественно тонкими, похоже, выщипанными бровями. Он был в тапочках на босу ногу, в темной рубашке, пузырившейся над широченными вверху и узкими у щиколоток штанами. И все время раскачивался, как цирковая обезьяна.
— Хорошенькие женщины вечно торчат у витрин модных лавок, — сказал он мне. — Это вполне естественно: вы только и делаете, что одеваетесь и раздеваетесь, снова одеваетесь и снова раздеваетесь, и так до бесконечности, вот в чем смысл вашей жизни, вот что можно было бы назвать вашим ремеслом. Тряпки и женщины, женщины и тряпки созданы друг для друга. Но мои наряды надо видеть вблизи, лапочка: одежда и впрямь по последней моде, одежда, которая никогда не устареет… Вам надо зайти внутрь и посмотреть весь ассортимент, красавица моя, за это я денег не возьму.
Не выпуская моей руки, он втолкнул меня в открытую дверь, запер ее за собой и положил ключ в карман. Я еще могла закричать, но не сделала этого, а вырываться было бесполезно. Он повернул рукоятку, и железный занавес по ту сторону витрины медленно опустился. Долго скрежетало железо, потом я услышала глухой удар и поняла, что я в плену, заперта среди гробов.
Вместо того чтобы отбиваться и хныкать, я с любопытством уставилась на большие ящики, удивляясь, что смотреть на них так приятно. Помещение оказалось намного глубже, чем можно было подумать, глядя через выходившую на тротуар витрину, гробы стояли в четыре ряда, и не видно было, куда уходили проходы между ними. В воздухе пахло стружками и леденцами, второй запах исходил от свежего лака.
— Женщина! — сказал Педро Виргула. — Твой носик жадно вдыхает аромат моих тканей. Ты права, позволив жадности победить в тебе страх. Перед любопытными красотками, перед хорошенькими лакомками невозможно устоять. Весь мир разворачивается перед ними, он подкатывает к их ногам, словно большая волна. Теперь войди в примерочную.
Он взял меня за плечи и толкнул в третий проход, и чем дальше мы шли, тем выше становились сложенные из тяжелых черных гробов стены. В глубине зала эти стены (конечно, за счет среднего коридора) раздвигались, и получалось что-то вроде узкой комнаты, две трети которой были отгорожены выстроенными по дуге детскими белыми с позолотой гробиками, украшенными ангельскими головками и крылышками. На верхних крышках нескольких из них стояли серебряные подсвечники. За демаркационной линией помещался гроб обычного размера, но розовый с голубым, а перед ним, параллельно полукружию, выстроились еще три гроба. Эта мрачная композиция испугала меня не больше, чем вид самого Педро Виргулы, — подобная декорациям какой-нибудь гражданской или религиозной церемонии, она казалась плодом беспредельной глупости и простодушия, а главное — невероятного ребячества. Кто же, кроме ребенка (пусть даже старого), додумался бы до этого погребального конструктора, где гробам отводилась роль кубиков, костяшек домино или песочных куличиков.
— Смотри, — сказал мне Виргула, — это мой маленький театр Тиволи. В настоящем театре женщины крутят задом и трясут животом в свете прожекторов, вертятся перед сидящими в ложах зрителями, начинают раздеваться, показывают ноги, плечи, чуть приоткрывают груди, а показать остальное им не разрешает полиция. В моем частном театре все по-другому. Здесь не терпят никаких ограничений. Да и как, скажи ты мне, можно хоть нитку на себе оставить, раз тебе позволили выступить в декорациях вечной моды? Обычно женщины понимают это сразу; в противном случае я беру на себя труд втолковать им.