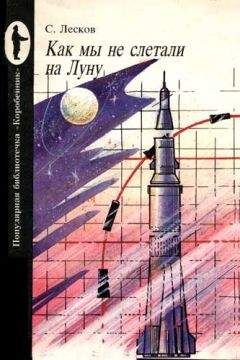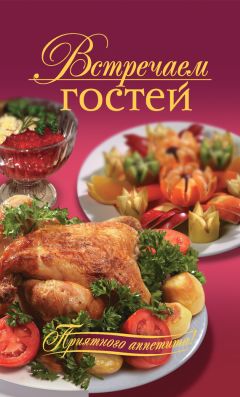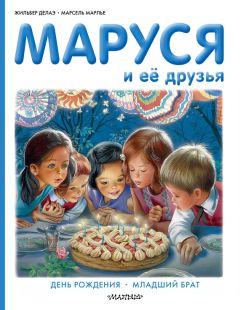Андре Пьейр Де Мандьярг - Огонь под пеплом
Как же так, спросил себя спящий, он мог бы поклясться, что слышал этот стук в тишине, воцарившейся внутри него и заглушившей или отбросившей по ту сторону сознания уличный шум за окном его комнаты, яростный рев моторов и вой сирен. Может быть, все остальное он сочинил, выдумал зрелище, на которое был приглашен таким странным образом? Ничуть не бывало. Он видел то, что происходило перед ним. Он боялся нарушить своими вопросами течение сна: было бы жаль, он успел всерьез заинтересоваться юной раздетой особой, превратившей магазин похоронных принадлежностей в гимнастический зал. К счастью, девушка по-прежнему была у него перед, глазами (или в поле его внутреннего зрения). Остались в целости и декорации, среди которых она двигалась, теперь медленно приближаясь к наблюдателю и увеличиваясь при этом в размерах, что позволяло разглядеть мельчайшие подробности ее сложения. Она шла посреди прохода, образованного составленными один на другой гробами, иногда протягивая руку, чтобы погладить самый красивый или нацарапать каракули на слое пыли. Он не сомневался, что девушка очень молода, и терялся в догадках, кто же она.
Прежде Даниэль Пуэн давал имена своим видениям, превращая их таким образом в личности, способные действовать. Но юная женщина, к телу которой было приковано его внимание, была такой реальной и осязаемой, вела себя так уверенно и непредсказуемо, проявляла такую самостоятельность, что было бы, наверное, неуместно, бестактно и даже грубо обращаться с ней, как с прежними бесплотными тенями. Так что Пуэн (разумеется, безмолвно) спросил, как ее зовут (поскольку был уверен, что видение его не безымянно), и попросил рассказать историю подвала, где она находилась, подобно тому, как в давно минувшие времена рыцарь расспрашивал даму о замке, куда та приводила его.
Совершенно «естественным» образом она ответила. То есть опять же, не слыша в действительности слов, казалось рождавшихся на губах девушки (а если бы она в самом деле произносила их, слова оказались бы не французскими, но испанскими…), Пуэн не сочинял их, нет, он воспринимал их каким-то неведомым способом, как те неизвестно кем сказанные фразы, коснувшиеся слуха бессонной ночью, которые надо записать как можно скорее, если хочешь удержать их в памяти. Еще он подумал, что никогда раньше его сновидения не были до такой степени неуправляемыми, и порадовался доставшейся ему роли праздного наблюдателя, не нарушавшей его покоя. Его усилия сосредоточились на том, чтобы отключить все чувства, уничтожив тем самым, насколько возможно, представление о внешнем мире и не упустить ни одного движения или поступка, а главное — ни единого слова девушки.
Меня зовут, — сказала она, — Мариана Гуаяко. Ты не спрашивал меня о том, кто я такая или кем была по ту сторону, да я и не смогла бы точно тебе ответить, потому что единственное, в чем я более или менее уверена, — я никогда больше не буду той необузданной и веселой Марианой, о которой еще храню смутное воспоминание, той простой и счастливой девушкой, той красоткой (если верить мужским комплиментам), которую скоро совершенно и прочно забудут. Хорошо еще, что у меня есть имя, вернее, у меня было имя, и я смогла его вспомнить и назвать тебе. Еще немного — и я забуду его (я хочу этого), как забыла отца, давшего его мне, как забыла мать, которая — так говорят святоши — подарила мне жизнь. С таким же успехом она могла бы взять топор мясника, отхватить себе груди и крест-накрест разрубить свою щель. То же самое могу сказать и об отце (с поправкой на его строение). Оба давно умерли. Гробы у них были не такие красивые, как тот, на котором я только что качалась, ведь мы были очень бедны. После их смерти я перебралась в Мехико и стала искать работу. С тех пор прошло не то два, не то три года. Мне было лет пятнадцать-шестнадцать. А несколько дней тому назад наполнилось восемнадцать. Мне кажется, что я старше истуканов из серого камня, каких крестьяне в наших местах находят иногда в земле или, когда вода уходит после сильной жары, в тине озер и за большие деньги продают иностранцам. Боги дорожают по мере того, как дряхлеют и тонут в грязи; вот если бы и с женщинами было так, я вскоре (как раз сейчас) смогла бы торговать своим телом выгоднее, чем Мерри Долорес, которая крутит задницей среди зеркал на сцене театра Тиволи!
Вскоре после приезда я поступила работать в мастерскую готового платья, хозяином которой был грустный и кроткий еврей, эмигрант из Кракова. В тесной комнате, где стояло восемь швейных машинок (но две или три всегда были сломаны), мы — пять девушек и жена хозяина — трудились с утра до вечера, кроили и шили рубашки ярких, кричащих цветов, стараясь угодить на вкус туристов, которые считают это мексиканской одеждой и хвастаются ею, вернувшись домой. Вот там я и зарабатывала себе на жизнь до вчерашнего дня; платили мне мало, но не обижали, и в общем жилось мне не так уж плохо; больше я туда не вернусь, так что позвольте мне в последний раз оглянуться на тесную мастерскую Саши Мозера, заваленную пестрыми рубашками, как этот подвал заставлен гробами. Я дружила с одной девушкой, ее звали Мара Бьенфамадо, она была полькой по матери; светлая шатенка с голубыми глазами, хорошеньким коротким носиком, тонкими губами, открывавшими очень белые зубы; я завидовала и старалась подражать ее непринужденным манерам; ее голос мягко обволакивал слова, словно мысли ее были далеки от того, о чем она говорила. Мы сразу же сблизились и, пусть девушки из мастерской над нами смеялись, всегда устраивались за соседними машинками.
Когда-то (то есть до того, как смерть родных вынудила меня перебраться в большой город) мужчины скорее отталкивали, чем притягивали меня, потому что в провинциальном кантоне, где мы жили, даже самые молодые из них — грубые скоты, и моя мать запугала меня рассказами о том, в каком ужасном состоянии находили девушек, соглашавшихся пойти с парнями в горы в ночи полнолуния; и потом, я боялась отца, обладавшего нравом еще более необузданным, чем другие, и я была еще совсем или почти ребенком, но в Мехико мои взгляды изменились, и я поняла, какой дурочкой была прежде. Именно благодаря Маре Бьенфамадо я сначала узнала волнение, а потом стала получать удовольствие от встреч с парнями; она помогла мне открыть новый мир, в котором сама давно освоилась, хотя была старше меня всего на три или четыре месяца.
После работы, если вечер был не очень дождливый, мы вместе выходили прогуляться: мы шли быстрым шагом, улыбаясь мужчинам и глазея на витрины (или наоборот); мы ели в барах слоеные пирожки, битки на палочках, блинчики с начинкой, в которой пряностей было больше, чем мяса, обжигали себе рты и слегка пьянели, и нам это нравилось. А потом, если у нас оставалось еще несколько песо и если мы казались себе хорошенькими, мы отправлялись потанцевать в дешевые заведения — чем ниже плата за вход, тем хуже репутация. Я завидовала Маре — она танцевала лучше меня, и молодые люди чаще ее приглашали; но самое большее, что я позволяла партнеру, — коснуться щекой моей щеки или нежно ко мне прижаться, дальше этого я не заходила, и Мара смеялась надо мной, когда мы выходили из зала на улицу, и я убегала, а она удалялась с каким-нибудь шалопаем, гордая, словно королева, которую ведут на эшафот. На следующий день в мастерской, качая педаль машинки, она веселилась еще пуще, но ни один стежок у нее не выбивался из строчки.
Как-то вечером мы блуждали по окраинным улицам и из любопытства зашли в довольно жалкого вида «клуб». Он помещался в нижнем этаже дома не то полуразрушенного, не то недостроенного, и надо было пройти по коридору, загроможденному умывальниками, биде и унитазами, пробраться среди сваленных на полу труб, кранов и раковин, прежде чем попадешь в просторное помещение, разгороженное стенками на закутки вроде театральных лож, а кругом кучи кирпича, извести и песка с грохотами и мастерками, стоят приставные лестницы, ведущие на леса, болтаются веревки, висят обрывки обоев и драные занавески. Кое-где на этой стройке застряла допотопная мебель, просиженные диваны, обитые розовым плюшем, комод красного дерева; все свободное место вокруг танцевальной площадки с неровным полом заполняли столы с колченогими стульями. Где-то наверху, на балконе, сидел оркестр, и оттуда оглушительно гремела музыка.
Мы сели за столик, стоявший чуть поодаль от других, и предусмотрительно расплатились сразу же на тот — вполне вероятный — случай, если вспыхнет перебранка, которая закончится мордобоем. Сначала я потанцевала с Марой, потом мы танцевали с мужчинами, они обращались ко мне с давно наскучившими предложениями, и я их не слушала. С площадки я заметила высокого парня, в одиночестве сидевшего за столиком рядом с нашим и поднимавшего глаза всякий раз, как я оказывалась напротив него. Я тоже на него смотрела, потому что его глаза были удивительного бледно-голубого оттенка (почти белые, куда прозрачнее, чем у Мары), словно два сквозных просвета в его лице, и из-за них меня тянуло к нему, как никогда и ни к кому прежде. Очень смуглый и темноволосый, одетый в черные брюки и черный свитер, он казался серьезным и замкнутым, он не танцевал и только смотрел (на меня), словно носил траур и забрел на танцы по рассеянности или кому-то назло. Некоторое время мы переговаривались взглядами, потом я встала, направилась к нему (и как только у меня хватило смелости?) и спросила, не хочет ли он потанцевать. Мара ошеломленно уставилась на меня. Настал ее черед завидовать. Когда парень обнял меня и прижался щекой к моей щеке, но продолжал молчать, я сказала ему, что в жизни своей не видела такого красивого мужчины, а когда почувствовала, что он вытаскивает мою блузку из-за пояса юбки, чтобы погладить голое тело, я не остановила его, только пожалела, что надела лифчик, немного мешавший ласкам. Но он сумел ловко расстегнуть застежку, не прерывая танца, моя блузка вздулась пузырем, и его руки скользили по мне, словно речная вода, когда купаешься ночью. Мы танцевали друг с другом не меньше десяти раз подряд, не возвращаясь к столику, а потом, не сговариваясь, вышли вместе, бросив Мару в одиночестве.