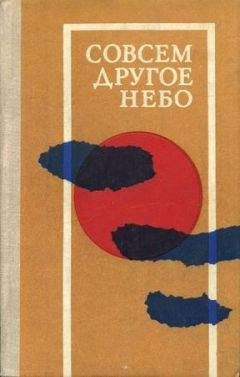Курбандурды Курбансахатов - Сияние Каракума (сборник)
Он взглянул в глаза Айгуль и… потерял дар речи. Огромные, тёмные, как безлунная ночь, они излучали какой-то особенный чудодейственный блеск, от которого у парня перестало кажется биться сердце, ноги стали ватными.
— Да что ты так уставился на меня? Нехорошо…
Довлет очнулся. Смутившись, он почувствовал, как всего его обдало жаром. Нужно было что-то сказать Айгуль, как-то выбраться из неловкого положения, он это понимал, но по-прежнему не мог вымолвить ни слова. Он лишь с трудом проглотил слюну.
— Я пойду к своим козам, — сказала Айгуль и тихонько пошла прочь.
Шагах в двадцати она обернулась, обожгла ещё раз Довлета чарующей улыбкой и скрылась за гребнем бархана.
Была ли она? Может всё это привиделось Довлету? Нет, не привиделось, — на песке остались чёткие следы её ног.
— Айгуль! Айгуль! — закричал вдруг Довлет и выбежал на бархан. Увидев вдали развевающееся на ветру, как алый стяг, её платье, он остановился.
Его крика Айгуль кажется не слышала, а может быть сделала вид, что не слышала, во всяком случае она медленно удалялась, подгоняя коз и овец. Довлет застыл на бархане, как каменное изваяние…
Довлет поспешил на стан: кажется прошла целая вечность, как он ушёл оттуда. Но торопился он напрасно — механик всё ещё возился с мотором, а стригали сидели в холодке и пили чаи.
— Ты куда запропастился?
— Да так, прогулялся, Курбан-ага.
— А здешние места, я вижу, тебе по душе. Ты здесь посвежел, поправился.
Курбан-чайчи видел, что Довлет за эти несколько дней похудел, осунулся, но как-то поддержать, ободрить паренька надо же.
— Ну, конечно, если есть каурму большой ложкой, а за весь день остричь пять баранов, поправиться можно, — сказал Курт.
— Я не больше твоего ем, — ответил с гневом Довлет. — Чего пристал?
— Здесь, браток, Каракумы. Не Ялта и не Сочи. Это туда люди едут отдыхать. А тут работать надо.
Говорил Курт со злостью. От злости же тряслись и его руки, да так, что он расплескал из пиалы горячий чай и ожёг себе руку.
— Чёрт бы тебя побрал, — процедил он сквозь зубы и посмотрел исподлобья на Довлета.
— Ты чего бросаешься на всех, как цепная собака? — спросил Курта Курбан-ага. — Когда начинал, и ты стриг не лучше. Вспомни.
Курт ничего не сказал, а лишь потёр дрожащей рукой нижнее веко правого глаза и неопределённо хмыкнул.
…Наконец-то застрекотал движок — все дружно встали и пошли по своим местам. Довлет, даже чаю не попив, приступил к работе. То ли сказывалось испорченное Куртом настроение, то ли барахлил агрегат, но Довлет чувствовал, что работа подвигается очень медленно. «Может быть, лезвия притупились?» — решил он.
Остановив агрегат, он побежал к Аганиязу.
— Замени лезвия на новые, — попросил Довлет.
— Ты думаешь, новые лучше?
— А как же?
— Новое всегда лучше старого, — сказал Аганияз, — это верно. И только о новых лезвиях для стригальных машин этого сказать никак нельзя.
— Я вполне серьёзно, Аганияз.
— А я и не шучу. Мне не жалко новых лезвий, только ты с ними намучаешься. Лучше я тебе дам старых, уже притёртых. Бери. — и он подал сразу четыре штуки. — Можешь менять в любое время. Только ты с этим делом не торопись. Любое лезвие, если оно притрётся, отточится, будет служить тебе о-ё-ей. Нужно, браток, терпение.
Весь этот день Довлет трудился, как говорится, в поте лица. Он остриг не пять и даже не десять овец. Около его рабочего места высилась довольно внушительных размеров горка шерсти. И она продолжала расти, радуя глаз.
Время от времени Довлет поглядывал в сторону Курта. Не хотел смотреть, но взгляд помимо его воли остановливался на куче шерсти, которую настриг Курт. «Э-э, дорогой, — говорил он сам себе, — за ним тебе не угнаться».
Довлет торопился. Пот заливал лицо, руки от долгого напряжения дрожали, но ему так не хотелось отстать от Курта.
Тыльной стороной левой ладони Довлет смахнул со лба пот, на какое-то мгновение аппарат выскользнул и порезал горло овцы. Брызнула фонтаном густая, липкая кровь. Довлет отбросил аппарат, позабыв отключить его, и, оцепенев, уставился на бедное животное. Подбежал Нурберды-ага.
— Что случилось?
— Да вот, горло…
— Ну, теперь уже ничем не поможешь. Чего ж ей мучаться, — и он, выхватив из ножен самодельный чабанский нож, перехватил овце горло.
Довлет смотрел на бьющееся в конвульсиях тело животного со слезами на глазах. Все остальные с сочувствием смотрели на незадачливого стригаля. Все, кроме Курта. Тот, самодовольно вскинув голову изрёк:
— Из такого стригаль не выйдет. Это уж точно. Посадить его на машину и отправить в Лебаб. Он же здесь пол-отары перепортит.
— Никуда я не поеду, — сказал Довлет.
— Ещё как поедешь. Стричь не можешь, подавать овец тоже не в состоянии. А зачем ты здесь? Лопать каурму?
Довлета словно наградили оплеухой, — челюсти сжались сами собой, а лицо запылало огнём.
— Курт, — сказал кто-то из старших, — уж это ты слишком. Парень старается. А ошибся, так с кем этого не случается?
— Хорошенькая ошибка, — усмехнулся Курт. — Интересно, за ущерб колхозу он заплатит?
— Каждый день заведующий фермой выделяет на стригалей одного барана. Пусть этот будет на завтра. Если же завфермой заартачится, — уплатить придётся. Но ты, Довлет, не отчаивайся, если что, — сказал Пурберды-ага и стал разделывать тушу.
Он опустил на пол мешок, который до этого не без труда нёс на плече. В мешке что-то звякнуло и загремело, но никто из присутствующих в комнате не обратил внимание ни на вошедшего, ни на его мешок, — все увлечены были шахматной партией. Кто против кого играл, понять было невозможно. Играли все. Каждый против всех, все против каждого.
— Ходи королём!
— Нет, королём ходить рано. Надо двигать пешку.
— Верно, двигать пешку. Причём, на два хода!
— Не-ет, на один.
— Не трогайте пешку — слон улетит!
«У них даже слоны летают! Доигрались… — подумал Курт. — Ох и пустой же народ. Над чем они ломают головы? Чудаки? Шахматами сыт не будешь. Игра она и есть игра. А играть должны дети. Бездельники! Кучка бездельников!..»
Курт вышел из комнаты. Ступив во мрак, он увидел у колодца блуждающие голубые огоньки. Курт смотрел на них как заворожённый.
— Ах, ты миленький мой, не уходи, подожди минутку… — шептал он.
Огоньки вдруг исчезли, затем появились вновь, чуть-чуть в сторонке, но появились на одно лишь мгновение. А когда их Курт увидел снова, они были уже далеко.
— Убегаете! — проговорил он вслух. — Ну бегите, бегите. Всё равно далеко не уйдёте…
Курт вернулся в комнату, взял мешок, с трудом взвалил его на плечо, и вышел. Осторожно ступая в темноте, он направился к колодцу.
Взошла луна. Огромная, медно-жёлтая, похожая на свежеиспечённый чурек, она почти тотчас же скрылась за облаком. Через минуту вынырнула снова и снова исчезла.
Кошара, чабанский домик, навес, под которым днём идёт стрижка, то отчётливо видны, то пропадают во мраке.
Накинув на плечи старенький пиджак, Курбан-чайчи направился к колодцу — налить в умывальники воды. Прохладненький, как хрусталь воздух, и тихий, ласковый ветерок бодрили, наливали всё тело какою-то свежестью. Дышалось легко, глубоко. Чайчи вполголоса напевал что-то весёлое.
Он подошёл к колодцу, стал было расправлять стальной трос, к которому крепилась небольшая бадья, как услышал какой-то шорох. Подняв голову, Курбан-ага увидел на склоне небольшого бархана попавшего в капкан джейрана. Бедняжка изо всех сил старался вырваться на волю, но с каждым новым рывком силы его таяли. Рванувшись раз, второй, он валился на песок и, тяжело дыша, падал вновь.
— Какой же это подлец додумался до такого? — спросил сам себя Курбан-ага и, бросив бадью и трос, пошёл к джейрану. — Кроме Курта никто, пожалуй, на такое не способен… Это его грязных рук дело.
На капкане запеклась густая тёмно-красная кровь. Следы крови видны были и на песке.
Тёмные, полные боли и страданий, глаза джейрана были широко открыты Казалось, животное вот-вот заговорит, станет просить помощи, пощады… Встретившись с джейраном взглядом, Курбан-ага почувствовал во всём теле какую-то слабость, вялость, ноги его подкосились, и он медленно опустился на песок. Этот полный боли и безысходной печали взгляд бессловесного существа напомнил человеку многое.
…Уже больше полугода бушевала война, жизнь села была полна тревог, каждый новый день приносил новые горести: кто-то из сельчан погиб, кого-то тяжело ранило.
— Всё! Больше не могу, — сказал Курбан своим домашним. — Я должен быть там, на фронте…
И мартовским ранним утром, перекинув через плечо котомку, ушёл в районный центр, в военкомат. Собралось их таких несколько человек.
Накануне прошёл сильный дождь, дороги развезло. Люди шли, по щиколотку утопая в грязи. Шли молча говорить было не о чем, каждый думал о своём. Думы у всех были разные, конечно, но все нелёгкие: мужчины покидали домашний очаг, шли туда, где смерть косит людей, как хороший острый серп густой камыш.
![Урсула Ле Гуин - Индеец с тротуара [Сборник]](/uploads/posts/books/276971/276971.jpg)

![Пол Андерсон - Кокон [ Межавт. сборник]](/uploads/posts/books/72467/72467.jpg)