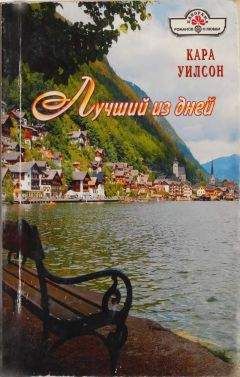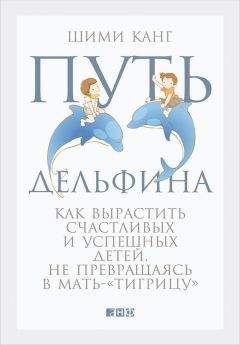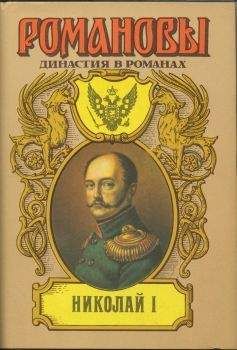Ежи Путрамент - Сентябрь
— Ну, видите, вот и чудом спасенная!
Анна вгляделась: Мусек стоял рядом с Виктором, Виктор неприязненно морщился, а Мусек радовался, как отец, наблюдающий первые шаги младенца. Назло ему она пошла быстрее, притворясь, будто для нее это не составляет никакого труда.
Однако Виктор был недоволен:
— Мне пришлось идти назад три километра, целый час пропал…
— Разве ты не видел, что меня нет?
— Ах, знаешь! Я был уверен, что ты идешь. Впрочем, через определенные промежутки времени я тебя окликал…
— Граф думал, что вы убежали вперед, — Мусек поторопился помочь Виктору, — и так спешил нагнать вас, что я едва за ним поспевал!
Анна сердито отвернулась от него. Мусек попытался взять ее рюкзак, у него своих вещей не было, даже шапки. Она не давала. Тогда вмешался Виктор:
— О чем ты думаешь! Пройдешь километр и снова выдохнешься. Раз уж тебе предлагают…
Без вещей ей стало легче. Только примерно в километре от Минска Мазовецкого перед глазами опять замелькали золотые пчелки. Виктор подбадривал ее:
— Ну, еще немножко, в городе отдохнем.
Мусек, однако, поглядел на небо и нахмурился:
— Я думаю, что графиня права. Лучше на лоне природы, чем в такой дыре, как этот городишко!
Вероятно, Виктор уловил в его словах нечто большее, чем только плохую остроту, потому что не стал возражать. Они свернули в первый попавшийся сосняк — там было полно отдыхающих беженцев — и опустились под предпоследней свободной сосной. Тотчас вслед за ними место у последней сосны заняла семья из четырех человек: молодая женщина с ребенком в коляске, молодой мужчина с огромным, килограммов на десять, караваем хлеба, пожилая женщина, тащившая неведомо для чего верхнюю часть швейной машины.
Анна с наслаждением села, скинула туфли и только тогда почувствовала, как горят у нее ступни. Она содрогнулась при мысли, что снова, быть может через полчаса, придется идти. Губы у нее запеклись, она попыталась их облизнуть, но язык, высушенный пылью, не слушался ее. Мусек вдруг встал.
— Я сейчас…
— Зачем ты его привел? — прошипела Анна, едва Мусек отошел. — Какой-то паяц!
— Ну, знаешь! Пришел от твоего имени. Я думал, он твой знакомый!
— Хорошего ты мнения о моих знакомых.
Виктор надулся, напомнил ей о каких-то действительно малоприятных знакомых и, кстати, попрекнул Анну тем, что по ее вине приходится тут торчать:
— Мы уже были бы за Минском!
Затем он позволил себе слегка намекнуть на то, что обращение Умястовского относилось только к мужчинам, словом, супружеская ссора была в самом разгаре, когда появился ее виновник.
— Прошу простить меня за то, что сию благородную форму я наполнил весьма банальным содержанием. — Мусек протянул ей бутылку из-под французского вина.
— Только с виду Chateau d'Iquem, а в действительности скорее «шато де Минск Мазовецкий».
Анна взяла бутылку, не поблагодарив; она пила — захлебываясь, давясь, с перерывами — минут пять.
— Ну и молодчина вы, графиня! — с искренним удивлением заметил он, когда Анна наконец вернула ему почти пустую бутылку.
Они полежали еще некоторое время, наблюдая за потоком людей, движущимся в пятидесяти метрах от них. Мусек трещал без перерыва. Анна краем уха слушала его болтовню, ее усталость теперь, пока они отдыхали, перешла в сонливость. В конце концов он оставил ее в покое и повернулся к соседней сосне. Там его лучше приняли.
Он с ходу предложил приспособить колесо от швейной машины к детской коляске вместо мотора.
— А если мы примем во внимание размеры и предположительный возраст вот этой буханки хлеба, то с легкостью сможем ее использовать в качестве брони. И тогда возникнет новый тип бронированного автомобиля, легкий, подвижной…
Мужчина с буханкой покатывался со смеху: он был механиком, и кое-какие технические советы Мусека пришлись ему по вкусу. Женщина с ребенком тоже оказалась очень смешливой. Они лежали вповалку, друг подле друга, механик одной рукой прижимал к себе буханку хлеба, другой обнимал жену, ребенок лет полутора совершал по их телам сложное путешествие, стараясь добраться до женщины со швейной машиной, лежавшей чуть поодаль.
Шум раздался внезапно, с солнечной стороны. Они увидели, что на шоссе началось замешательство, потом людская волна, как бы перерезанная посредине быстроходным судном, схлынула с дороги влево и вправо. Анна вскочила и сейчас же упала, Мусек грубо потянул ее назад своей лапой.
— Лежать! — крикнул он, словно обращаясь к непослушному щенку. — Воздух!
Самолетов было несколько, они летели не то гуськом, не то парами; ни Анна, ни ее спутники этого не видели, они уткнулись носом в рыжую колкую хвою. До них доносился рокот моторов, и к этому рокоту примешивался другой, отрывистый звук.
Пролетели. Но, прежде чем беженцы успели поднять голову, подоспела новая группа самолетов. Крики с шоссе. Десять секунд, конец. На голову Анны упала сосновая веточка, и укол ее показался Анне смертельным, она в отчаянии глотнула воздух.
Еще минута тишины в небе и криков на шоссе.
— Ну, вот и сказке конец! — сказал Мусек. — Разрешите, графиня, станцуем полонез. Механик, запускайте мотор!
Анна встала, отряхнула с брюк сосновые иглы. Виктор схватил свой рюкзак, но никак не мог закинуть его на спину, у него дрожали руки. Мусек помог ему.
— Здесь, здесь раненая! — кричали на шоссе. Поток еще не сформировался, часть беженцев снова пустилась в путь, остальные медлили, выжидали в поле, не доверяя небу.
— Идемте! — позвал их Мусек. — Не стоит ждать, когда повторится эта неуместная шутка. А наши соседи все еще лежат. Что случилось, мастер, свечи отказали? Карбюратор?
Он шагнул по направлению к ним, нагнулся и замолчал. В его молчании было нечто заставившее Анну тотчас броситься к нему. Механик с женой спокойно лежали в обнимку, ребенок дополз наконец до швейной машины и застыл, положив ручку на блестящий никель. Только красноватые пятнышки пробежали по ним ровненькой стежкой. Женщине с машиной попало в шею — струйка крови. И на буханке пять черных отверстий.
Мусек выпрямился. Анна не узнала его глаз. Они были дикие.
— Ну, погодите же, — прошипел он. — Мы вам отплатим.
22
Танковый корпус Хеппнера, который за два дня — 5 и 6 сентября — разгромил между Петроковом и Томашувом три польские пехотные дивизии, в беспорядке, по одной брошенные против него, после короткого ночного марш-броска замедлил темп, 7 сентября рассеял под Крулевой Волей остатки тринадцатой дивизии и остановился, не зная, что ворота столицы вражеского государства открыты перед ним настежь. Только агентурные данные о панике и бегстве правительства, пришедшие в ночь с четверга на пятницу, побудили Хеппнера ускорить марш. Ранним утром 8 сентября корпус пошел вперед. Четвертая танковая дивизия двигалась вдоль Пилицы, через Нове Място и Гроец, на Гуру-Кальварию, отрезая последнюю связь Варшавы с остатками польских группировок в районе Радома и Скаржиска. Первая танковая дивизия генерала Рейнхардта ударила главными силами через Мщонув прямо на Варшаву; от возможных неожиданностей со стороны отступающей тоже на Варшаву только что разбитой армии «Лодзь» ее прикрывала слева танковая колонна, идущая на Гродиск-Олтажев.
Прикрытая, таким образом, с обеих сторон, главная немецкая колонна, не встречая никакого сопротивления, начала ускорять темп. Утро было ясное, в городишках, через которые проходила колонна, буйно цвели осенние цветы, в танках, идущих в нескольких километрах от авангарда, солдаты открывали тяжелые люки, высовывались наружу, снимали рубашки, загорали и гордо пялили глаза на садики, деревья с румяными яблоками, белые пригородные домики, выглядывавшие из гущи позолоченных листьев, на всю эту беззащитную местность, отданную на их бронированную милость и немилость. Около полудня колонна начала изгибаться у какого-то поворота, и солдаты, сидевшие в передних танках, вдруг замахали руками, закричали, стали оборачиваться, окликать двигавшихся позади, указывая пальцем на какие-то точки на горизонте. Моторы отчаянно ревели на первой скорости, и не сразу можно было понять, что привлекло внимание танкистов. Только когда машины подходили к повороту и из-за деревьев и крыш выглянула далекая башня, а чуть ближе показались контуры низкого, но солидного здания, стал понятен смысл безгласного крика, его повторяли снова и снова. «Варшау, Варшау!» — неслось от танка к танку, от одной пары голых солдат к другой. В передних машинах солдаты натягивали пропотевшие рубашки, носовыми платками стирали с лиц дорожную грязь, готовились к скорой встрече с варшавскими парками, магазинами, ресторанами, девушками.
В то утро Варшава еще не пришла в себя после чудовищной ночи, последовавшей за призывом Умястовского, после тревожного, мрачного вчерашнего дня. В районе Охоты и Воли от домика к домику, через садики уже несколько дней рыли окопы, широкие и крутые, на улицах наваливали груды камней, поставили надолбы и в каждой такой баррикаде оставили проход шириной несколько метров для своих, все еще удиравших из Радома, Петрокова, Лодзи. Солдаты с пулеметами начали занимать позиции, однако их было мало, орудий на Охоте, можно сказать, вообще не было видно, и к тому же потрясение, пережитое минувшей ночью, оказалось настолько сильным, что не верилось, будто здесь всерьез готовятся к обороне. Офицеры, которых обступили бабы с Охоты, настойчиво требуя ответа на вопрос, сдадут или не сдадут Варшаву, отвечали вроде и отрицательно, но тут же принимались разглядывать свои сапоги — не запылились ли, доставали портсигары и долго выбирали сигарету, чтобы была не слишком твердая и не слишком мягкая, призывали к спокойствию и глазели на небо, искали самолеты, нередко, впрочем, появлявшиеся, — словом, делали все что угодно, лишь бы не глядеть женщинам в глаза. Только когда женщины предложили прислать подростков и стариков им на помощь, офицеры возмутились: