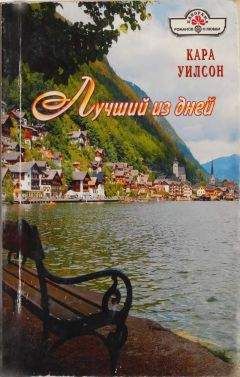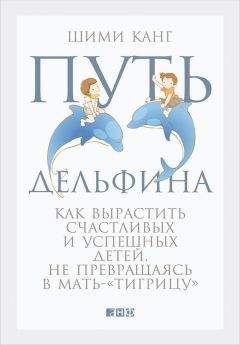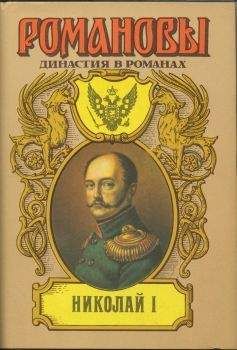Ежи Путрамент - Сентябрь
Она вернулась на мостовую. Толпа теперь почти бежала. Только одна тучная! женщина стояла в стороне, лицом к толпе и что-то выкрикивала. Уже пройдя мимо нее, Анна вспомнила, что знает эту толстуху.
— Казик! — кричала женщина. — Казя! Пан вице-министр Бурда-Ожельский!
— Пани Гейсс! — воскликнула Анна. — Что вы тут делаете?
— Ах, это… — Гейсс не узнала Анну. — Сейчас, сейчас, не мешайте мне, пожалуйста. Казик, Казик!
Анна и Виктор попытались увести ее. Гейсс не согласилась:
— Как это, сейчас должна подъехать машина «бьюик»! Он ведь мне поклялся! Я — пешком?
Виктор тронул Анну за локоть: пошли! Толпа рысью наверстывала время, потерянное на мосту, снова кто-то кричал, что немцы на площади Нарутовича, в Мировских рядах… Горело в стороне Праги, за рекой, в небе мелькали лучи прожекторов.
Рассвет застал их на полпути к Минску Мазовецкому. За Анином поток разделился надвое, большинство беженцев сворачивало вправо, на Люблин, Залесские шли левой стороной шоссе, может быть, поэтому они двинулись прямо. Впрочем, они шли без всякой осмысленной цели, их родные жили на Куявах и под Кельцами.
Теперь путники страдали уже не из-за давки, а главным образом от усталости. Анна выбилась из сил; она упрямо тащила рюкзак и портфель, боялась остановиться, сесть, так как была уверена, что больше не поднимется. Виктор нервничал:
— Ты слышала, что говорили на мосту? Двигайся, двигайся. — Он слегка подталкивал Анну, видимо думая, что помогает ей.
— Прокладывай дорогу. — Анна пропустила его вперед и поплелась сзади.
В какой-то момент, потеряв из виду кружку, подпрыгивавшую на рюкзаке Виктора, Анна попыталась идти быстрее. Однако в ту же минуту группа особенно энергичных беженцев наскочила на нее сзади, один здоровенный детина толкнул ее локтем в бок, другой задел своим могучим плечом, голова у нее закружилась, и она рухнула в ров.
Ров был мелкий, но при падении погасла последняя искорка энергии Анны. Она лежала, неловко подвернув ногу, придавленная тяжестью рюкзака, и, в сущности, была счастлива. Рядом двигались люди, она слышала их тяжелое, прерывистое дыхание, слышала десятка два постоянно повторяющихся слов, которых им хватало для выражения своих чувств: быстрее, хлеба, воды, немцы, береги вещи, к черту все это — и еще кое-что о сановниках, о режиме. Из всех этих слов только одно, «немцы», немного еще волновало Анну. Она пробовала пошевелиться — не удалось. «Виктор заметит, будет меня искать, не простит мне новой задержки, он так нервничает…» И это не подействовало. Она вспомнила его разговоры в дороге. Она для него обуза. Лучше тут остаться.
Потом нахлынули новые мысли, касающиеся уже не только ее и еще более безнадежные. Зачем убегать, зачем мучиться? Немцы, Гитлер — ведь это уже все, нет больше Польши. Какой смысл жить, смотреть, страдать, мучиться — только для того, чтобы быть под Гитлером, до конца… Неизвестно почему ей вспомнился дядюшка Кноте, и мысль о нем окончательно убедила ее: «Он знал, что делает, когда лез под бомбу…»
— Разрешите, графиня! — услышала она низкий, густой голос, чья-то рука ухватила ее за локоть, потом, словно поняв, как Анна слаба, незнакомый человек взял ее обеими руками под мышки, поднял и поставил на ноги. Но ему тотчас пришлось ее поддержать, крепко прижав к себе: колени у нее подогнулись и она едва не рухнула снова на землю, как мешок, который выпустили из рук.
— Вот вам и диалектика! — заметил незнакомец, усаживая Анну на дне рва. Не поняв, что он сказал, Анна поглядела наверх. Незнакомец был высокого роста, темноволосый, хищноватое лицо, густые брови, орлиный нос. С виду ему было под тридцать. Он смотрел на нее без всякого сочувствия, скорее строго.
— Не изволили понять, графиня? Не удивительно, ведь система образования в наших интеллигентско-аристократических сферах изобилует серьезными пробелами. — Он говорил резко, критическим тоном и попутно отстегивал пряжки ее рюкзака. — Я вижу, лежит во рву женская фигура, напоминая срезанный цветок азалии или бегонии, как выразилась бы Мнишек. Вот я и думаю: этот цветок, бегония, попросту говоря, помер, отдал концы. Вот первый тезис. Потом я вижу, что цветок все-таки шевелит ножкой. Э, думаю, может, она так, из кокетства бегонию изображает. Вот и антитезис. Сейчас мы ее разоблачим. Значит, берем за галс и ставим на ножки. И что же мы тогда видим? Мы видим, что цветок действительно срезан, потому что он падает. Но срезан не совсем, как я сперва подумал. Вот и синтез. Вы наконец поняли, графиня? — почти крикнул он.
Анна бессмысленно кивала головой. Эта своеобразная риторика так не вязалась с ее стертыми пятками, шумом в ушах, медленными, золотистыми пчелками, садившимися роем на любой предмет, который попадался ей на глаза. Потом она пролепетала:
— Виктор.
— Вовсе я не Виктор! — воскликнул он. — Я Мусек!
Наверно, у нее было страдальческое выражение лица, потому что он смягчил тон и засуетился.
— Вы имеете в виду не меня, а кого-то из ваших спутников? Извините, я, оказывается, туго соображаю, хотя и не лишен проницательности. Не прошло и трех часов, как я понял, что вы отнюдь не мне так нежно шепчете «Виктор». Поскольку я вижу, графиня, что вам нелегко открывать ваши розовые губки, условимся, как в «Графе Монте-Кристо»: если вы моргнете один раз — это будет означать «да», два раза — «нет». Итак, Виктор — ваш муж?
Она моргнула один раз. Но следующий вопрос возмутил ее, и она обругала его, вдруг снова обретя способность отчетливо выговаривать слова.
— Избавьте меня от своих кабацких манер. Я не знаю, кто вы такой, но не могу себе представить, чтобы порядочный человек при подобных обстоятельствах стал паясничать!
Дело в том, что второй его вопрос был:
— Вы очень любите мужа?
Мусек спокойно перенес нахлобучку, он и бровью не повел и даже подзадоривал Анну:
— Да, да, очень хорошо. При первой же оказии я напишу в «Zeitschrift für Neuropaihologie». В случаях слабости можно вместо возбуждающих солей с отличным результатом применять глупые вопросы. Ну а теперь в состоянии ли вы приспособиться к обстоятельствам, то есть удирать, бежать, драпать?
Она встала, сделала два шага. Он взял рюкзак и портфель, потом поддержал ее за локоть.
Ничего не помогало. Перед глазами летало еще больше пчелок. Анна опустила веки, и тогда голова у нее закружилась, как два года назад, во время какой-то попойки.
— Опишите мне внешность вашего мужа, я попытаюсь его найти.
— Виктор Залесский, адвокат. Высокий, — она взглянула на своего спутника, — то есть среднего роста. Спортивный серый костюм. Рюкзак, кепи. Лицо у него очень загорелое, круглое, глаза голубые, нос… — она снова бросила на него взгляд и тотчас зажмурилась. — Такой здешний…
— Понимаю, — сказал он вполне серьезно. — Мазовецко-куявский, картошкой. Ну что же, пустяки. При неплохом темпе передвижения на погонный метр этой дороги приходится от одиннадцати и трех четвертей до четырнадцати и тридцати двух сотых Залесских, из них от трех до пяти Викторов. А уж из этих — полтора с носом картошкой. Предположив, что он отдалился не больше чем на два километра, и, применяя мысленно логарифмическую линейку, мы высчитываем, что нужно опросить всего три тысячи Викторов Залесских, не забыли ли они случайно во рву некую азалию или бегонию. Прошу стеречь вещички, я трогаюсь. Пан Твардовский давал сатане худшие поручения.
Он резво зашагал и вскоре смешался с толпой беженцев. Анна слышала звонкий возглас: «Виктор! Виктор!» — пробивавшийся сквозь шарканье ног, скрип детских колясок (с их колес стерлась достаточная в городских условиях порция смазки), крики беженцев, которые искали друг друга в толпе или подгоняли друг друга сообщениями о приближении немцев.
Анна закрыла глаза, чтобы не видеть людей, бросавших в ее сторону — правда, все реже — сочувственные взгляды, в которых отнюдь не чувствовалось желание помочь. Земля, еще не согревшаяся после холодной ночи, тоже, казалось, вибрировала в такт всеобщему движению. Анна явственно ощущала неравномерную, но непрекращавшуюся дрожь. Она не сразу сообразила, что это означает, зато, когда дрожь усилилась и до нее дошли глухие взрывы, вскочила, хотела идти, но, увидев рюкзак, поняла, что не справится с ним.
Теперь она злилась на Мусека за то, что он так долго ищет Виктора. Потом обрадовалась, хорошо, что он ушел, его навязчивые и плоские остроты просто невыносимы… А еще спустя некоторое время ей снова все стало безразлично.
Когда прогремели следующие, уже более отчетливые взрывы со стороны Варшавы, Анна все-таки вскочила, собрала вещи и медленно поплелась вперед, жмуря глаза от назойливого солнца, которое уже выкарабкалось из-за хилых сосновых рощиц и повисло прямо над шоссе.
Сперва она услышала его возглас:
— Ну, видите, вот и чудом спасенная!