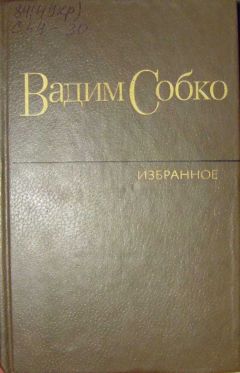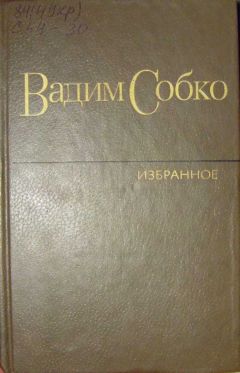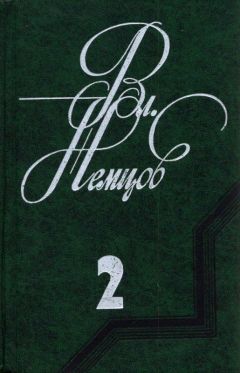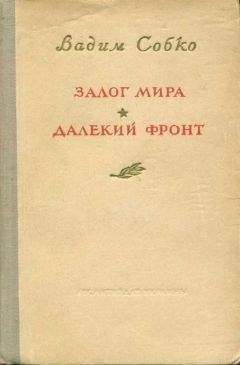Вадим Собко - Избранные произведения в 2-х томах. Том 2
— Наш КП будет у посёлка Беличи, на западной окраине, — сказал Грунько, хорошо зная, что лейтенант никогда не придёт на околицу Беличей. Шамрай всё отлично понимал и никого не осуждал. Если бы ему самому пришлось отдавать приказ, он говорил бы точно такие же слова и таким же тоном.
— Ну что ж, тогда будем держаться до двадцати одного часа, — повторил он. — Хорошо, если немцы действительно сюда не бросят танки.
— По данным разведки…
— Да, конечно, по данным разведки. Хорошо, будем держаться. Так и передайте: будем держаться.
— До скорого свидания, — Г рунько протянул Шамраю большую сильную ладонь.
— До скорого свидания.
И хотя оба великолепно знали, что этого свидания никогда не будет, что они, обманывая друг друга, лишь стараются успокоить себя, пожатие рук было сильным и дружеским.
— Ничего передавать не нужно?
— Нет, не нужно. Письмо отцу я вчера послал на ППС.
— Ну и отлично.
Грунько повернулся и, стараясь не смотреть на Шамрая, не оборачиваясь, пошёл к лесу, где вскоре и исчез в надвигающихся лесных сумерках.
Лейтенант постоял мгновение, разглядывая, как далеко за полем гаснут последние солнечные лучи, и направился к дзоту. Амбразура выходила прямо на запад, и поэтому в землянке ещё держался слабый розовый свет. Взглянув в побледневшее лицо Могилянского, Шамрай понял — боец всё уже знал. Может, услышал он, насторожённый в минуту смертельной опасности, их разговор с политруком или просто догадался.
— Отходить будем завтра в двадцать один час, — сказал Шамрай. — Возьми вон там мою фляжку.
В такой вечер беречь несколько глотков водки в алюминиевой фляжке было бы просто глупо.
Они выпили, не морщась, не чувствуя вкуса водки, и молча съели консервы, думая о завтрашнем дне. Ночь опустилась безлунная, душная ночь. Где-то далеко за Днепром приглушённым громом пророкотала гроза. Лес за стенами землянки ожил, зашевелился. Послышались голоса, треск ветвей, слова команды, конское ржание.
— Что это? — встревоженно спросил Могилянский. — Кажется, артиллеристы отходят? А мы?
— Отойдём завтра, в двадцать один.
Вскоре стихли осторожные голоса и скрип колёс по песку, наступила полная тишина. Филин пролетел на своих бесшумных крыльях, опустился на дерево, крикнул зловеще, пронзительно, но и это не нарушило тишину, скорее даже усилило её.
— Будем спать, — сказал Шамрай. — Сначала вы, товарищ Могилянский, до двух часов, потом я до четырёх. А там посмотрим.
— Все отошли? — спросил боец.
— Нет, не все. Мы с вами остались. Ложитесь.
— Почему именно нас оставили?
— А почему кого-нибудь другого?
— Да, это верно…
Могилянский примостился поудобнее на полу, накрылся шинелью и затих.
Шамрай осторожно вышел, стал возле дзота. Широкое поле, освещённое светом звёзд, расстилалось перед ним. Скоро появится луна, и ночь станет сказочно красивой, будто нарисованной художником…
Лейтенант утратил ощущение времени или, может, задремал вот так, с открытыми глазами, напряжённый, как боевая пружина перед спуском.
Между тем небо за лесом начало светлеть и проглянул серый мглистый рассвет. Шамрай вздрогнул, тревожно оглянулся, взглянул на часы — четвёртый. Поднялся на ноги, нервно размял затёкшие мышцы, крикнул:
— Могилянский, вставайте!
Боец выскочил из дзота.
— Умойтесь, будем встречать утро, — сказал Шамрай. Спустился в землянку, оглядел пулемёт, приготовил патроны. Через силу принудил себя и Могилянского съесть галеты, выпить воды.
Далёкое гудение мощных моторов послышалось за стенами землянки. Шамрай спокойно подумал — танки. Вот тебе и данные разведки.
Взглянул на Могилянского. Лицо, правда, побледнело, но губы не дрожали. Твёрдые, как жёлуди, желваки перекатывались на щеках. Видно, волнуется и боится страшно, но владеет собой полностью. Вот и приходит боевой опыт к парню.
Лейтенант ещё раз взглянул на бойца, потом развер-нул планшет, вынул блокнот, написал несколько слов, вырвал листок, сложил пополам и протянул Могилянскому.
— В штаб, бегом! На западную окраину, посёлок Беличи.
— Товарищ лейтенант!
— Бегом! В штабе должны знать, что здесь танки!
— Неправда, вы меня… жалеете?
— Бегом, пока есть время, — уже не крикнул, а исступлённо прошептал Шамрай, и лицо его стало таким страшным, что Могилянский помимо воли послушался.
Вот на изломе траншеи промелькнула его фигура, ещё раз показалась между сосновыми ветками и исчезла. Шамрай едва заметно улыбнулся.
— Вот теперь повоюем.
Оглядел своё оружие. Что может сделать пулемёт против танка? А вот солдатам, которые обычно едут в грузовиках за танками, он ещё может показать свою силу. И для этого нет необходимости быть за пулемётом двоим.
Шамрай смотрел, как нахально мчатся по шоссе немцы. Вот осталось сто метров, вот они уже рядом с дзотом. Сыплется песок сквозь доски, гудит земля над головой. И в мозгу, как надоедливая пчела, бьётся одна мысль: «Не сорваться! Не выдать себя!»
Прошли танки. Приблизился первый грузовик. Двадцать солдат сидят в кузове ровно, будто гвозди, вбитые в доску. Сколько вас останется в живых через пять минут?
Пулемёт словно захлебнулся, такой злой была первая очередь. Всех он скосил или нет? Из машины солдат как ветром сдуло. А может, ещё живы, попрятались? Сейчас прошьём борта, чтобы там ни одна мышь не схоронилась. Ну как, увидели Киев?
Неожиданно сзади, возле самого входа в дзот, разорвалась граната. Горячая волна ударила лейтенанта в затылок, и свет померк в глазах.
Немецкие танкисты ворвались в развороченный взрывом дзот, вытащили Шамрая и долго били его бесчувственное тело ногами в тяжёлых, кованных железом ботинках.
Потом подошёл офицер, недовольно поморщился, что-то сказал. Шамрая бросили в машину и быстро повезли по захламлённому шоссе в немецкий штаб,
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Расположенный в западных отрогах польских Карпат лагерь военнопленных Лаундорф лежал на теле земли как гнойный струп. Всё — по немецким стандартам. Ток высокого напряжения в колючей проволоке, туго натянутой между тонкими железобетонными столбами. Двадцать бараков в два ряда. Просторный апельплац. Административные корпуса, а за ними здание из красного кирпича с высокими трубами — крематорий.
И всё-таки это, как оказалось, не самый страшный из гитлеровских лагерей, не Майданек и не Освенцим, куда привозили людей только для того, чтобы уничтожить. В Лаундорфе пленных держат долго, на работы не посылают, и чёрный дым над кирпичной трубой вьётся не каждый день. Гражданских пленных здесь нет, только советские командиры и бойцы.
Над бараками, над колючей проволокой ограды, над зелёными Карпатами ранняя весна 1942 года. Гитлеровцы придавили железной пятой всю Европу. Их дивизии под Москвой и Ростовом.
На апельплаце, ещё мокром от талого снега, вытоптанном сотнями тысяч раненых, больных ног, — четыре тысячи пленных, ободранных, небритых, изнурённых. Комиссаров и политработников здесь нет, всех выявило и уничтожило гестапо, остались только строевые командиры, сержанты, бойцы.
На петлицах истлевших, почерневших от пота и крови гимнастёрок можно увидеть треугольники, квадратики, иногда даже «шпалы» — маленькие красные прямоугольники, знаки старшего командного состава.
Роман Шамрай стоял на апельплаце, с нетерпением ожидая, когда закончится утренняя перекличка и можно будет вернуться в барак. Холодный пронзительный мартовский ветер пробирал до костей. За лагерную зиму похудел лейтенант так, что, глядя на него, можно было изучать строение скелета. Ботинки, чудом державшиеся на ногах, вконец разбиты и стоптаны. Гимнастёрка истлела, уцелел лишь воротник, на нём видны петлички с двумя красными кубиками, обрамлённые потемневшим золотым кантом. Лицо, покрытое густой золотистой бородой, осунулось и побледнело, щёки запали, и от этого неестественно большими стали светло-синие глаза. Волосы отросли, как у дьякона, на затылке — тёмно-русая грива.
Над крыльцом штаба, куда ведут четыре бетонные ступени, громкоговоритель, передающий во время переклички приказы коменданта. Что они услышат сегодня?
На апельплаце их всегда держат полтора-два часа, за это время человек успевает промёрзнуть до костей. Зубы начинают стучать, как цимбалы. На этот раз пленные стояли уже два часа, а фельдфебель войск СС Арнульф Шнейдер всё прохаживался да прохаживался вдоль выстроенных шеренг, словно ему бог знает как нравилась эта прогулка.
Четыре тысячи человек в его власти. Делай что хочешь. Всё дозволено! Не понравилось лицо пленного или выражение его глаз, пистолет в руки — и нет человека. И никто не спросит, почему он это сделал.
От сознания собственной неограниченной власти эсэсовцы кажутся всегда немного пьяными. Ощущение безмерного права туманит голову сильнее вина. Глаза мутнеют, с их неподвижным осоловелым взглядом встретиться страшно.