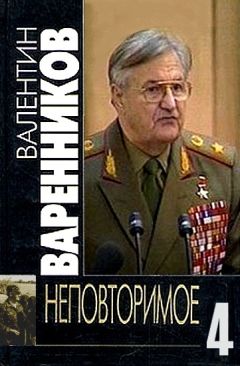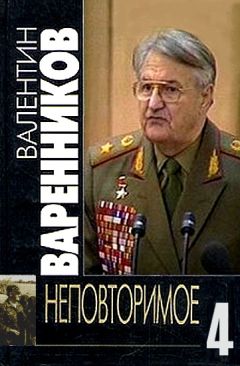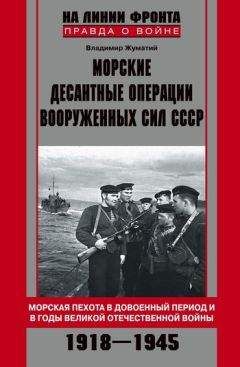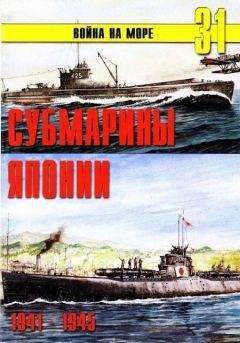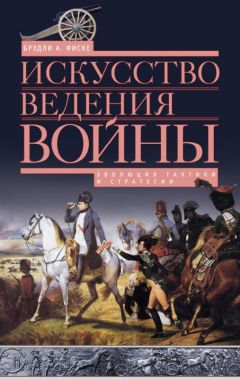Рувим Фраерман - Избранное
Но Ли Ок Ен не видела уже этих пушек и не слушала их выстрелов. Она смотрела только на сына, с усилием протирая свои зоркие глаза, на которые наплывали то кровь, то пот, то смертная тьма.
Но все же она видела его, видела, что он все бежит и бежит среди белых метелок торади, живой, легкий, как ветер, и быстрый, как ласточка перед дождем.
Ли Ок Ен показалось, что в эту минуту наступила мертвая тишина, и она потеряла сознание. А когда очнулась через некоторое время, то увидела над собой склоненные лица солдат и Пен Гука, стоявшего рядом. Раны ее были уже перевязаны, и солдаты лили ей в рот теплую рисовую водку.
Они были несколько иного обличья, чем Ким Се Чен и его товарищи, но дружелюбные улыбки их говорили ей, что она будет жить и будет мир на земле, которого она так хочет, и не однажды еще встретит она утреннюю зарю.
— Это вы не дали им убить Пен Гука? — спросила она, плача от радости.
Они ответили ей на китайском языке, которого она не знала.
Тогда она спросила их о другом:
— Кто вы?
И старший из них, взяв за руку ее сына, громко ответил ей, вставляя корейские слова:
— Мы братья твои! Мы пришли вам помочь!
1951
Два снайпера
Блестела убитая щебнем дорога; голые саженцы, мелом беленные камни далеко провожали ее. Она шла в гору. За ней чудились море, горячий берег, серые оливы. Но пахло не морем, а хвоей. Через какие пространства уносишь в памяти этот горький запах!
Пахло кедрами. На дороге учился ездить на велосипеде красноармеец, над дорогой летал бомбовоз. Часовые ходили у складов. Возле каменных казарм желтел песок, и в осенней траве росли неожиданные цветы.
Это и был Дальний Восток.
Командир полка пригласил меня остаться у него.
— Чем вас угощать? — спросил он. — Вы, наверное, не будете есть фазанов. Они вам здесь изрядно надоели.
И в первый день он достал рябчиков; мясо их тоже пахло хвоей. Потом четыре дня подряд я ел фазанов: утром, днем и вечером.
Приветлив и прост был командир. С утра надевал тяжелые походные сапоги, форму и уходил бриться в гарнизонную парикмахерскую.
А вечером после полковых дел слушал мои рассказы о Москве. К столу подсаживалась его жена — маленькая женщина, которую звали Брониславой. Они расспрашивали о новых поэтах, о Большом театре. Запыленный крошечный китайский бильярд валялся в углу.
Иногда командир настраивал радио, стараясь поймать оперу из Большого театра, но ловил только японские марши, Филиппины, Гонолулу.
— Далеко Москва, — говорил тогда командир.
— И здесь у вас замечательная жизнь, — отвечал я. — Недавно я видел, как взорвали скалы, чтобы проложить сквозь тайгу широкую дорогу. Три дня потом над океаном носилась пыль.
— Это верно, — согласился командир. — Мы работаем здесь неплохо: строим, сторожим. У меня есть прекрасные стрелки. Кстати, хотите, я вас познакомлю с лучшими снайперами моего полка? Они должны сейчас прийти ко мне.
Вскоре в передней раздался звонок, и два голоса, слившись в один, сказали:
— Товарищ полковник, по вашему приказанию братья Фроловы явились.
Я спросил:
— Неужели это те самые братья, о которых командующий писал их отцу, поздравляя его с такими сыновьями?
Командир кивнул головой.
В комнату вошли два красноармейца — двое юношей, рослых, похожих друг на друга.
Спокойно, без робости они подошли к столу и взяли по яблоку, которые им предложил командир.
Старший, Евгений, был смуглее брата и молчалив. Разговаривал больше Владимир. Он крепко держал яблоко, слушал и отвечал, глядя прямо перед собой. Он считался лучшим снайпером, чем его брат. Когда старшего призвали в Красную Армию, младший пошел добровольцем. Они не хотели расставаться, и оба стремились на Дальний Восток.
И оба были так молоды, что детство помнили как ближайшее время своей жизни: железнодорожный техникум в Пензе, станцию Селикса, где отец был начальником, игру в бабки, ленивую речку, в которую ветер постоянно сбрасывал листья с осин.
А полковнику было уже под сорок пять, и лицо у него было желтое: расплата за старые раны и малярию. И мне казалось, что легкая зависть к юности снайперов сквозит во взгляде его светло-голубых глаз.
Он сказал младшему:
— Ты на инспекторских стрелял сверхотлично. Из пяти выстрелов не дал ни одного промаха. А ведь погода была плохая. Твой брат один раз промахнулся.
Старший смутился, а младший, с сочувствием взглянув на брата, сказал:
— Слева было солнце, товарищ полковник, а справа — ветер. Он прижимал траву, и я определил его как средний. Солнце ударяло в левое очко противогаза мешало видеть цель. Я заклеил очко бумажкой, а на ветер сделал поправку.
Командир улыбнулся. Он остался доволен ответом, но вслух заметил:
— Все это прекрасно. Однако боюсь, что вас перехвалили. У меня сотни таких снайперов, как вы.
Братья промолчали, но по улыбке, мелькнувшей в глазах младшего, было видно, что в душе он с этим не согласен.
Потом командир рассказал, что японский солдат может сделать с пулеметом шестьдесят километров в день.
— Вот это здорово! — сказал младший.
Старший продолжал молчать. А так хотелось, чтобы этот смуглый и молчаливый юноша заговорил.
Я спросил у него, почему он так стремился на Дальний Восток.
Он ответил:
— Здесь граница и ближе враг, — потом, подумав немного, добавил: — Тут есть виноград и кедры.
IIСтранная осень на берегу океана. Летом проходят туманы, дожди, а осень начинается, как наша весна: не падает лист, солнце исправно встает над хребтами, высока и тепла синева, нет паутины.
Но бывают и скверные дни. Они неожиданны.
С утра командир собирался объезжать свой участок, Я попросил его взять меня с собой.
Я захватил свитер, а шофер-красноармеец надел шубу с овчинным воротником. И только полковник не сменил своей старой шинели.
А по дороге, как неутомимый путник, не отставая от машины, шлепал дождь. Он сбивал красные листья с орешника и ворчал в кустах.
Впереди, над перевалом, воздух был темен и холоден, а позади долина до краев была переполнена туманом.
— Похоже, что на хребте снег, — сказал, обернувшись, шофер.
Мы поднимались все выше. Дождь отстал от нас, и в слюдяные окошечки застучала крупа. Она летела косо, она звенела о кузов. С хребтов спустилась и захватила дорогу вьюга. Уже не видно было ни щебня, ни веток, и мерзли ноги.
— Капризный у вас климат, — сказал я полковнику.
Он усмехнулся и поглубже запахнул полы шинели:
— А мы привыкли.
Шофер остановил машину и тряпкой протер стекло.
— Впереди люди, — сказал он вдруг.
— Откуда тут люди в такую погоду? — спросил командир.
Он насторожился и выскочил из машины. Ветер обнял его ноги и заставил их согнуться в коленях. Впереди в метели качались два пятна. Они удалялись.
— Догони их, — сказал командир шоферу и вскочил в его кабинку.
Машина, гудя, разрезала белый воздух, и очень скоро люди стали хорошо видны. Их было двое. Они шли по сугробам и тащили что-то за собой.
Мы поравнялись и с удивлением узнали братьев Фроловых. На них были ранцы, сумки с противогазами, за плечами висели винтовки.
Братья держались за веревку, к которой был привязан щит для стрельбы. На щите лежала убитая козуля. Копытца ее волочились по снегу, а длинный язык касался холодной фанеры.
Снайперы дружно поздоровались с командиром. Лица их были багровы и мокры от снега, шлемы обледенели, полы шинелей не гнулись. Мы остановились, и командир, показав на козулю, спросил их:
— Где убили?
— Вчера за Черной падью, товарищ полковник.
— За Черной падью? — повторил удивленно командир. — Почему так далеко? Разве ближе не нашли?
— Не искали, — ответил смущенно старший.
А младший, едва улыбнувшись замерзшими губами, приподнял козулю за ноги и снова бросил ее на щит.
— Разрешите спросить, товарищ полковник: козуля весит больше японского пулемета?
— Больше. Издалека ли тащите?
— Шестидесятый километр делаем.
Командир ничего не сказал. Он внимательно посмотрел на озябшие руки стрелков, на их обледенелую одежду и ранцы:
— Привяжите козулю к машине, мы дотащим ее до полка.
— Спасибо, товарищ полковник; осталось еще пять километров, разрешите выполнить снайперскую задачу до конца.
Мы поехали дальше. Но скоро сугробы утомили машину. Она стала, и шофер, стуча ключом, поднял ее железный капот.
А мимо прошли и исчезли в метели два снайпера — двое юношей, похожих друг на друга.
Они гнулись под ветром, таща за собой воображаемый пулемет.
К вечеру мы были дома, и я снова ел фазанов, а командир пил чай. Принимаясь за третий стакан, он открыл книгу и, порывшись в ней, сказал.