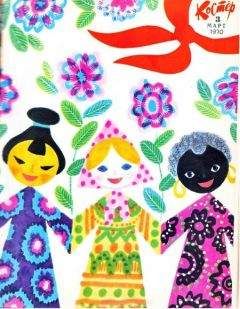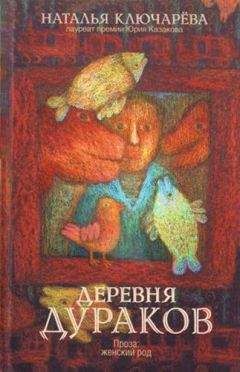Борис Леонов - Солдаты мира
Он думает о том, что запятые Семаков упомянул неспроста: он мог услышать язвительные Димины комментарии по поводу последней разработки начальника разведки и сопровождавший их хохот лейтенантов. «Боже, — с отвращением к себе и стыдом, сразу обдавшим его жаром от ушей до кончиков пальцев, думает Дима, — я же тогда чуть не кричал на весь клуб: «Кол ему! Кол!» Ну, и скотина же я… Что же я все-таки делаю не так? — думает он, глядя на предвечернее небо за окном. — Почему я даю столько поводов уличать себя в неумении? Я не старателен? Мало требователен? Неумело провожу занятия? Я плохой командир?»
Он выбирает из стопки листки с расписанием занятий на эту неделю, некоторое время смотрит на них невидящими глазами, потом взгляд его падает на пепельницу с раздавленным окурком.
— Дневальный!
Является Назиров, любимец Семакова, и Дима спрашивает, откинувшись на спинку стула:
— What do you think, Sir, about your chief’s abilities? As for me, I doubt them awfully. What do you think, Sir?[2]
Назиров старательно силится понять, что от него хочет лейтенант. Это не из разговорника, нет. Повторил бы помедленнее…
— Выбросить пепельницу! И надрай гильзу так, чтобы сверкала, как твои ботинки перед увольнением. Все равно ночью дневальному делать нечего.
— Почему нечего, товарищ гвардии лейтенант?
Семаков идет по городку.
— Климов — парень нужный, не доцент, — он не замечает, что говорит вслух. Рука автоматически поднимается к виску всякий раз, когда его приветствуют переходящие на строевой шаг солдаты. — Двух очень умных за одного нормального дам. Надо дело делать, а не варианты перебирать. Не рассуждать, а работать. Так, что если еще чуть-чуть, то треснешь. От напряжения.
В «доценте» для капитана сосредоточено все мудрствующее и хилое. Горшок с мозгами. Каждый раз он говорит:
— Где чего прибавится, там того убудется. Мы тоже учили. Закон сохранения. Ломоносов… Где ты видел, чтобы доцент мог, как Назиров, «языка» тридцать километров на горбу нести?
Командир однажды рассмеялся:
— Антоныч, выходит, ты у нас — идеальный разведчик.
— Нет, — сказал Семаков. — Я опытный. Идеальных нет. Вы тоже не идеальный. — Подумал и добавил: — Но тоже опытный.
Двадцать лет назад Семаков начинал службу в этом же полку рядовым.
— Кто решится меня провести — не рекомендую. Сам был солдатом. Знаю, где можно спрятаться от утреннего кросса. В котельной, не так ли?
С командиром полка они вместе служили командирами разведгрупп. Нынешнему командиру тогда было двадцать один. Семакову — двадцать девять. Младший лейтенант Семаков с десятилеткой экстерном и лейтенант Ярошевский с ромбиком Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища.
— Антоныч, — сказал летом прошлого года Ярошевский, — я хотел бы, чтобы ты был рядом. Мы с тобой и там побывали и туда летали. В августе. Ты меня знаешь, какая я прелесть, и я знаю, какой ты сахар. И потом, бобра вместе ели в шестьдесят восьмом. Согласен идти ко мне?
Да, он всегда считал, что Ярошевский — парень верный.
— Майора получить мне уже, честно говоря, не снилось, — признался Семаков. — Я расшибусь, но не подведу, товарищ подполковник. Можете положиться.
— Тогда учти, Иван Антонович: должность начальника разведки требует, кроме всего, еще и штабной культуры. Много бумаг. Я тебе буду помогать, но… Спрашиваю я со всех одинаково. Ты знаешь, как. Все свои, объяснять не надо. Не справишься… — И он хлопнул руками по полированной доске стола.
— Может, я чего-то не понимаю? — спросил сегодня Семаков. — Перед обедом построил гвардейцев, а у них шинели неровно обрезаны. У Божко каблуки сбиты. Сколько можно говорить об этом! В армии, Хайдукевич, много скучного, такого, что никак делать не хочется, а надо. И оружие чистить, и за сапогами следить, и дневальным стоять. Десантные войска — это не только голубой берет, прыжки и ваше каратэ или регби. И даже не грамотно написанные бумаги… Вы слушайте, слушайте, не делайте вид, что вам все это давно известно… В воскресенье пришел в казарму, вижу: гвардейцы вместо того, чтобы подворотничок свежий подшивать или к политзанятиям готовиться, в щелчки шашками играются. Неужели дела серьезней нельзя найти разведчику! А вы жалуетесь, что времени не хватает… Почему никого… никого!.. Ни взводных, ни вас не было в казарме? Понимаю, на танцах интереснее…
— Да я вообще не хожу на танцы. — Дима даже побледнел от обиды. — При чем танцы! Незачем офицеру подменять старшину! Зачем? Меня учили не так. Я должен сержантам доверять. Экзамен по педагогике я сдал на пять!
— Ну-ну, — сказал Семаков, — на пять. Это хорошо.
«Ни черта не понял, — подумал он, натягивая шапку. — Ротный…»
Если бы не жена и дети, капитан, наверное, давно бы уже жил в казарме с разведчиками, чтобы только все они были у него на виду, чтобы знал он каждый шаг каждого, чтобы чувствовал он их, как самого себя.
— Вот что, Хайдукевич, — говорит он, — нам с тобой нельзя в людях ошибаться. Мы же их из сотен выбираем. Почему их поселили отдельно от всех? Привели сюда, на третий этаж, показали койки и сказали: вот твой дом, а это твои братья… А Божко мне уже дважды соврал. По пустякам, но дважды. Он считает, что провел меня, малец. А мы его готовим для того, чтобы он отправился с заданием за многие и многие километры и сделал там все, что надо… Нас бросят первыми, первыми мы и пойдем, с надеждой только друг на друга. Ты, Хайдукевич, почаще об этом думай. Вместо танцев.
Капитан идет от казармы к штабу, размышляя о Климове, вспоминает беспомощное его лицо, стриженую голову, большие красные руки, то, как он языком слизывал слезу.
«Какой отпуск перед разведвыходом!»
«Нет, — решает Семаков, — Хайдукевич не сумел бы так поговорить с парнем. Не сумел бы. Главное, не стал бы. Служить ему еще надо, служить не один год, молодому да раннему. В двадцать лет ротный…»
«Ну-ка, лейтенант, ответь мне, почему, к примеру, Назирова не надо поощрять кратковременным отпуском? Он как огня боится твоего отпуска. Знаешь? Эх ты, братец-кролик… По их обычаю, семья должна будет его встретить таким застольем, что отцу потом полжизни работать за этот краткосрочный отпуск. А парень не хочет вводить семью в расходы. У него ведь шесть братьев и семь сестер. Тринадцать, кроме него. Это-то знаешь? Что ты знаешь? Бумажки?»
Семаков поднимается по ступенькам штаба. Гвардеец со штык-ножом и с красной повязкой отдает честь. Капитан долго смотрит на бляху его ремня, потом говорит:
— Дорогой посыльный Гапонов! Ремень у тебя висит, как на водовозе дяде Кузе, сапоги не чищены с прошлой пятницы. Что ты смотришь на меня своими голубыми глазами? Учу тебя, учу, а толку…
Он идет на второй этаж, самым лучшим образом отдает честь знамени и стучится в комнату замполита.
— Здравствуй, Иван Антонович, — поднимает утомленные покрасневшие глаза подполковник. — Ты-то мне как раз и нужен. Сидай. Ты к партконференции готов? Выступление принес? Я с докладом целые две недели сижу, голова, як казан, а розуму ни ложкы.
Семаков разводит руками:
— Так…
— Я на тебя, Иван Антонович, надеюсь.
— Вы же знаете, какой я говорун с трибуны!
— И тем не менее всегда выступаешь по делу. Скажу откровенно, тебя слушают внимательнее, чем других. Задеваешь ты именно того, кого следует. Сказав, як у око влипыв.
— Я-то готов, — улыбнулся Семаков. — Вы мне только для вступления дайте что-нибудь. Из литературы. Я хочу сказать, что некоторые молодые офицеры наше дело как игру какую-то воспринимают. Настоящей серьезности не чувствуется. Я не потому… Считают, что и так ясно, что к чему. Для чего мы служим. Подумают про себя, а подчиненным не скажут. Понятно? А это самый главный вопрос и ответ. Молодой с первого дня должен осознавать, что его учат не для того, чтоб он такой красивый и высокий в берете голубом но городу ходил или боевыми приемами приятелей удивлял. Молодой офицер…
— Это ты верно, — прикрыл глаза ладонью подполковник. — Я с тобой полностью согласен. Хотя немного пережимаешь, а? Ребята грамотные, грамотнее нас с тобой во всех отношениях, даже в этом. Твой же Хайдукевич. Очень, как мне кажется, старательный молодой офицер и умница… Слушай, Антоныч, а ты, часом, не завидуешь молодежи, а?
Капитан побледнел так, что залысины стали молочными. Убрал руки со стола и казенным голосом сказал:
— У меня дело. У сержанта Климова из разведроты мать находится в тяжелом материальном положении, серьезно больна и с грудным ребенком на руках. Ходатайствовать о краткосрочном отпуске по семейным обстоятельствам не имею возможности: у него служебные дела. Прошу содействовать в обращении в военкомат по месту жительства для произведения капитального ремонта в ее квартире. Рапорт я представлю сегодня же. А завидовать я не умею, товарищ подполковник. — И он вытер платком побелевший лоб.