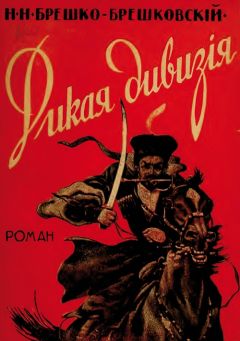В когтях германских шпионов - Брешко-Брешковский Николай Николаевич
Старая дедовская мебель, почерневшие картины и на письменном столе — пучок гусиных перьев, которыми любил писать покойный князь и которые, увы, пережили его.
И все, как было при нём. На стене — заржавленная елизаветинская шпага и тяжелые вороненой стали, необыкновенно длинные и неудобные для прицела пистолеты.
Мара с детства хорошо помнила эти пистолеты. Они внушали ей страх. С годами рассеялось это чувство, а теперь они вызывали у княжны снисходительную улыбку.
Она давно успела вернуться из Варшавы. И когда ее охватили дома уют и покой, и зимним вечером, в тепле и под ласку матери, она вспомнила кошмарную ночь в польской деревушке, с Гумбертом, и двумя часовыми, ежеминутно готовыми ее пристрелить, и, в конце концов, вынужденное бегство, и чудесное спасение — все это казалось ей теперь настолько чудовищным, что не хотелось верить: было ли это на самом деле взаправду, или посещают ее отзвуки дурного, как горячечный бред, сна?..
Здесь о войне напоминали госпитали, переполненные ранеными. С каждым днём прибывало их все больше и больше. А в остальном зимняя жизнь столичного пригорода текла, как и раньше. И эта зима немногим отличалась от минувшей. Обилием снега разве и отсутствием военных. Все гвардейские полки были на позициях, и вести об них приносились одинокими офицерами, возвращавшимися на несколько дней, кто отдохнуть, кто легко раненный, а кто в командировку.
Сонечка д’Эспарбэ приехала вместе с княжной из Варшавы. Смугло-бронзовый, как танагрская статуэтка, Малицын ушёл в действующую армию, после чего Варшава опостылела вдруг Сонечке, и она вместе с подругой поспешила вернуться. Вскоре, почти вслед за нею, спустя неделю-другую приехал и Малицын. Хрупкий, экзотический юноша простудился в окопах и едва не схватил воспаление лёгких. Его отправили домой подлечиться.
Сонечка, терзавшаяся, что его могут убить, или он попадёт в плен, была на седьмом небе. Они опять вместе. Она слушает его музыку, не спуская с него бездонной синевы прекрасных очей своих.
Для Мары тянулось медленно время. От одного письма до другого. Полосы длительного молчания сменялись целым каскадом писем, которыми забрасывал ее Каулуччи. Ах, до чего ждала она этих писем!
Отцовский кабинет был "наблюдательным пунктом". Из окна виден был весь уходящий в перспективу двор, кончающийся воротами и калиткою. И какой желанной была фигура почтальона, дважды в день являющегося в усадьбу со своей туго набитой сумкой. Жадно подстерегала Мара каждый его приход. И когда мороз покрывал своим серебряным кружевом сплошь все окно, княжна, вспомнив детские годы, терпеливо дула тёплым дыханием своим в одну точку. И понемногу оттаивала изморозь, и, чтоб совсем оттаяла, Мара пальцами протирала небольшое круглое, с пятак, окошечко. И сквозь это окошечко она, как в овальной рамке, видела и весь двор, и калитку, и появлявшегося в ней почтальона, и, Боже, как он долго и нудно пересекал двор… Княжна бросалась на кухню, торопила почтальона, с посеребренными усами и бородою.
— Скорей же, скорей давайте…
И если это были только газеты или "чужие" неинтересные письма, разочарованная девушка сразу вся погасала. И по лицу этого "Меркурия" в неуклюжем форменном пальто научилась Мара угадывать, есть от "него" письма или нет. И если "да", почтальон расплывался в сияющую улыбку. Сам спешил забежать вперёд.
— Сегодня целых два, ваше сиятельство!..
В таких случаях она сыпала ему рублями чаевые.
Но вот проходит неделя, другая тянется. А об нём ни слуху ни духу. Ни звука, ни одной строчки. Мара истомилась, похудела. И как-то погасли японские зеленоватые глаза. Но все же упрямо, изо дня в день, утром и вечером, занимала она свой наблюдательный пункт, протирая "пятачки" в намёрзшем окне.
Почтальон смущался, и вид у него был виноватый, обескураженный. Долгое молчание офицера, почерк которого был наизусть им выучен, бил его по карману. Серебряный дождь рублей прекратился на целых три недели…
Целых три недели княжна мучилась неизвестностью. Даже письма братьев — она пробегала их обыкновенно со вниманием — наскучили ей, и она передавала их, не читая, княгине.
Утихли морозы, пошла мягкая оттепель, и громадное окно стало прозрачным и чистым. Как на ладони, весь двор и часть улицы. Но какой толк, если все эти выгоды наблюдательного пункта не приносили Маре желанных писем.
Сонечка забегала урывками. Похорошевшая, румяная с холоду, в красной вязаной шапочке и с лисьим боа.
— Сегодня два часа на лыжах бегала! А ты не бегаешь?..
— Нет…
— Напрасно! Это развлекало бы тебя… Давно имела письма?
— Давно… Очень давно… И забыла, когда!
— Ах, теперь я все по-ни-маю… — нараспев молвила Сонечка. — Теперь я все понимаю… Досадно! Вчера Имшин приехал с позиций!..
— Ну и что? — оживилась Мара.
— Ничего… То есть ничего интересного для тебя… Маркиза не видел и не имеет никакого понятия, где он, как он и что с ним… Я его первым же долгом спросила… Думала быть для тебя доброй вестницей… Но Имшин сам ничего не знает…
— Жив ли он… — с тоскою вырвалось у княжны.
— Что за глупости? Разумеется, жив!
— Ты думаешь?..
— Странный вопрос. Да, потому что было бы глупо, если б его… если б с ним что-нибудь случилось… Я уверена, что завтра ты получишь письмо, и все будет благополучно…
После некоторой паузы, Сонечка с эгоизмом влюбленной переходила на свое:
— Ах, Мара, я так счастлива, так счастлива! Даже боюсь!.. Боюсь, что его найдут здоровым, поправившимся и опять пошлют на эту несносную войну… А у него как раз прилив творчества. Он сочиняет оперу из какой-то индийской жизни… Хор баядерок, жрецы, факиры и магараджа… Помнишь роман, который мы собирались писать?
— Помню… — машинально, думая о другом и завидуя подруге, отвечала княжна.
— Как здоровье мамы?
— Ничего… Она у себя отдыхает… Получила письмо от Васи, волновалась, плакала и теперь отдыхает…
— А что пишет Вася?
— Не знаю… Впрочем, немножко знаю… Взял в плен какого-то важного офицера… И опять ему выйдет награда… Чувствует себя хорошо, здоров… Чего же больше?..
Мара подошла к окну и молча смотрела, прижавшись лбом к холодному стеклу. Притихла и Сонечка. Вынула из майоликового стакана с дробью гусиное перо, щекоча им свое румяное личико. Ей было не по себе. Было чувство неловкости перед подругой. И глядя на гибкую спину Мары, она услышала какой-то слабый крик, увидела, как вздрогнули её плечи и трепет передался всему телу.
Через двор шёл офицер в солдатской шинели. Рука его была на черной перевязи. Ближе и ближе видно лицо с крупными чертами и мефистофельской бородкой.
Княжна пошатнулась. Сонечка, бросившись к ней, схватила ее за локоть… У Мары подкашивались ноги, ослабела вся вдруг, и стало темно в глазах.
42. К новым радостям
Конца краю не было радостям. Ожила вся вдруг княжна, почувствовав около себя любимого человека.
Все свои дни, вечера, все свободное от перевязок время — перевязки отнимали немного — проводил Каулуччи у своей невесты. Да, невесты.
Об этом говорили, этому удивлялись. И было основание удивляться.
Каулуччи всегда такой надменный, замкнутый, к женщинам относившийся с каким-то сдержанным презрением, Каулуччи, за которым тщетно бегали мамаши своих дочек, богатых приданниц — этот самый Каулуччи женится на княжне Маре.
И, как всегда в таких случаях в бесконечных пересудах и завистливых сплетнях доставалось обоим. И жениху, и невесте.
— Княжна Тамара?.. Она очень мила, нет слов… Но, если уж говорить правду, что в ней особенного? Красива? Нет… Богата? Нет! Умна? Так себе… Звёзд не хватает с неба.
— А искусство завлекать мужчин? Это вы не ставите ни во что? — ядовито подхватывает чей-нибудь "доброжелательный" голос.
— Зато принесёт мужу свою добродетель… А это по нынешним временам плюс большой, в особенности, принимая во внимание, что барышни преспокойно устраивают выкидыши. А княжна, отдать ей справедливость, ловко водила мужчин за нос. Они на многое надеялись, а не получали даже самых обыкновенных поцелуев. В добродетели её вряд ли кто усомнится…